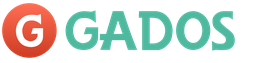Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Древняя Русь – хмельные напитки
Московские кабаки при царе Алексее Михайловиче - 1676 г.
Из романа Алексея Толстого " Пётр первый"
На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон, с коньками и петухами, - кружало - царев кабак. Над воротами - бараний череп. Ворота широко раскрыты, - входи кто хочет. На дворе на желтых от мочи сугробах, на навозе валяются пьяные, - у кого в кровь разбита рожа, у кого сняли сапоги, шапку. Много запряженных розвальней и купецких, с расписными задками, саней стоят у ворот и на дворе.
В избе за прилавком - суровый целовальник с черными бровями. На полке - штофы, оловянные кубки. В углу - лампады перед черными ликами. У стен - лавки, длинный стол. За перегородкой - вторая, чистая палата для купечества. Туда если сунется ярыжка какой-нибудь или пьяный посадский, - окликнет целовальник, надвинув брови, - не послушаешь честью - возьмет сзади за портки и выбьет одним духом из кабака.
Там, во второй палате, - степенный разговор, купечество пьет пиво имбирное, горячий сбитень. Торгуются, вершат сделки, бьют по рукам. Толкуют о делах, - дела ныне такие, что в затылке начешешься.
В передней избе у прилавка - крик, шум, ругань. Пей, гуляй, только плати. Казна строга. Денег нет - снимай шубу. А весь человек пропился, - целовальник мигнет подьячему, тот сядет с краю стола, - за ухом гусиное перо, на шее чернильница, - и пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом.
Ныне пить легче стало, - говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. - Ныне друг за тобой придет, сродственник или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с богом. А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил... Стой... Убыток казне... И этот грош казне нужен... Сейчас кричишь караул. Пристава его, кто пить отговаривает, хватают и - в Разбойный приказ. А там, рассудив дело, рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед...
Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь, ныне руки, ноги не рубим...
Глава 2
«ГОСУДАРЕВО КАБАЦКОЕ ДЕЛО»
«Любимейший их напиток»
По традиции принято приписывать изобретение водки ученым арабского Востока конца I тысячелетия н. э.; более определенно можно сказать, что первый перегонный аппарат в Европе появился в Южной Италии около 1100 года {1} . В течение нескольких столетий aqua vitae («вода жизни») продавалась как лекарство в аптеках. Тогдашняя медицина полагала, что она может «оживлять сердца», унимать зубную боль, излечивать от чумы, паралича и потери голоса {2} .
Во Франции это привело к появлению национального напитка - коньяка. Но с распространением рецепта все дальше на север и восток стали возникать проблемы с сырьем - виноград не рос в Северной Европе. Тогда впервые попробовали использовать злаковые культуры. Помогли традиции пивоварения: солод (пророщенные зерна ржи), используемый для приготовления пива, теперь затирали в бражное сусло. Так появился немецкий брандвейн. В Англии и Шотландии стали использовать ячмень; сохранившийся документ 1494 года с указанием рецептуры приготовления «воды жизни» дал основание отпраздновать в конце XX века 500-летний юбилей шотландского виски. С конца XV - начала XVI столетия относительно дешевые и не портившиеся хлебное вино (водка), джин, ром и другие спиртные изделия того же рода начинают постепенно завоевывать Европу, а затем и другие континенты. Когда в 1758 году Джордж Вашингтон избирался в законодательную ассамблею штата Вирджиния, он бесплатно раздал избирателям 28 галлонов рома, 50 галлонов ромового пунша, 34 - вина, 46 - пива и два галлона сидра, и все это - на 391 человека в графстве.
Английские, голландские и немецкие купцы познакомили с крепкими питьями не только соотечественников, но и население своих колониальных владений в Азии, Латинской Америке и Африке. «Питейные» деньги становятся одной из важнейших статей дохода и объектом высокой политики. Знаменитый кардинал Ришелье счел необходимым включить в свое «политическое завещание» пункт о расширении французской «северной торговли», ибо «весь Север безусловно нуждается в вине, уксусе, водке».
Помещаемые иногда на этикетках современных водочных бутылок уверения в том, что их содержимое изготовлено «по рецептам Древней Руси», не соответствуют действительности. Не вдаваясь в спор о точном времени и месте изобретения этого национального продукта, можно выделить рубеж XV-XVI веков, когда новый напиток стал известен в Москве {3} . Впервые сообщил об этом достижении русских ректор Краковского университета и врач польского короля Сигизмунда I Матвей Меховский. В главе «Трактата о двух Сарматиях» (первое издание - 1517 год), посвященной Московии, он писал, что ее жители «часто употребляют горячительные пряности или перегоняют их в спирт, например, мед и другое. Так, из овса они делают жгучую жидкость или спирт и пьют, чтобы спастись от озноба и холода» {4} .
В том же году посол германского императора Сигизмунд Герберштейн увидел на парадном обеде в Кремле «графинчик с водкой (он употребил соответствующее немецкое слово «Pranndtwein ».-И. К., Е. Н. ), которую они всегда пьют за столом перед обедом» {5} . Кажется, в это время этот напиток еще был редкостью; не случайно Герберштейн особо отметил появление графинчика на великокняжеском пиру. Однако уже несколько лет спустя, в 1525 году в Риме епископ Паоло Джовио по поручению папы расспрашивал московского посланника Дмитрия Герасимова и с его слов записал, что московиты пьют «пиво и водку, как мы видим это у немцев и поляков». Последующие описания путешествий в Россию XVI века уже неизменно содержали упоминания водки как общеупотребительного напитка жителей {6} .
Очень возможно, что познакомили московитов XVI столетия с этим продуктом западноевропейские или прибалтийские купцы. Во всяком случае, до 1474 года именно немецкие торговцы привозили спиртное в Псков; только в этом году новый торговый договор прекратил эту практику, «и оттоле преста корчма немецкая» {7} . Новгородские купцы также покупали вина за рубежом, а когда в 1522 году власти Новгорода потребовали у таллинского магистрата уплатить долг русским купцам, в перечне имущества упоминались и «бочки вина горячего» {8} . В XVII веке статьей импорта из Швеции стало оборудование для винокурения - медные кубы и «винокурные трубы».
В начале XVI века появилось и слово «водка», но употреблялось для обозначения спиртовых настоек в качестве медицинского препарата. Такие «водки» в Москве настаивались на естественном сырье, имевшем лечебные свойства. Их готовили в специальном учреждении - Аптекарском приказе, учрежденном в конце столетия, имевшем соответствующую аппаратуру. Страждущие подавали челобитные о пользовании такими лекарствами: «Вели, государь, мне дать для моей головной болезни из своей государьской оптеки водок: свороборинной, буквишной, кроловы, мятовые, финиколевой». Водку как алкогольный напиток в течение нескольких столетий называли «хлебным вином»; во всяком случае, эти названия свободно заменяли друг друга. Официальное признание термина «водка» для продукта винокуренного производства произошло в 1751 году с выходом указа о том, «кому дозволено иметь кубы для двоения водок» {9} . Так или иначе, новый напиток быстро вошел в употребление.
Составленный в середине XVI века «Домострой» - свод правил ведения хозяйства и быта зажиточного русского горожанина («имеет в себе вещи полезны, поучение и наказание всякому християнину») - уже хорошо знал процесс винокурения и давал наставления. Если варить пиво хозяин мог поручить слугам, то мед сытить и вино курить надлежало лично: «Самому ж неотступно быти, или кто верен и прям, тому приказати… а у перепуска (перегонки. - И. К., Е. Н. ) потому ж смечать колке ис котла укурит первого и среднего, и последнего». Готовую водку (здесь она называлась и вином, и «аракой») рекомендовалось ни в коем случае не доверять жене и тем более «упьянчивым» слугам, а хранить «в опришенном погребе за замком», а пиво и мед - во льду под контролем самого главы семьи: «А на погреб и на ледник и в сушило и в житницы без себя никакова не пущати, везде самому отдавати и отмерите и отвесити и скольке кому чего дасть, то все записати».
«Домострой» содержит описание технологии приготовления своеобразного «коктейля», подававшегося в домах по случаю церковного праздника, свадьбы, крестин, дней поминовений, посещения игумена или неожиданного приезда гостей: смесь меда, мускатного ореха, гвоздики и благовоний «в печи подварив, в оловеники (оловянную посуду. - И. К., Е. Н. ) покласти или в бочечки, в горячее вино, а вишневого морсу и малинового… а в ыной патоки готовой».
Хозяйке дома предписывалось гостей «потчивати питием как пригожа, а самой пьяново пития хмелново не пити». «Домострой» предостерегал и гостей от неумеренного употребления водки, ведь после пира можно было не добраться домой: «Ты на пути уснешь, а до дому не доидеши, и постражеши и горше прежнего, соимут с тебя и все платие и што имаши с собою, и не оставят ни срачицы. Аще ли не истрезвишися и конечным упиешися… с телом душу отщетиши; мнози пияни от вина умирают и на пути озябают» {10} .
Пройдет еще сто лет - и этот продукт получит гораздо более широкую известность, и заезжие иностранцы будут называть его «любимейшим напитком» русских.
Явление кабака народу
Посол Герберштейн сообщал, что великий князь Московский Василий III «выстроил своим телохранителям новый город Нали» - стрелецкую слободу Наливки (в районе улицы Большая Якиманка) и разрешил им свободное изготовление вина. Однако право на изготовление крепкого питья недолго оставалось только формой поощрения верных слуг. Теперь власть решила сама продавать водку под старой вывеской «корчмы», а возможно, и использовала уже имевшиеся заведения.
Летописный отрывок XVI столетия донес до нас рассказ о введении таких учреждений в Новгороде в 1543 году: «Прислал князь великий Иван Васильевич в Великий Новгород Ивана Дмитриевича Кривого, и он устроил в Новгороде 8 корчемных дворов». Правда, первые опыты открытия казенных питейных домов не всегда проходили удачно. После просьб новгородского архиепископа Феодосия, обеспокоенного ростом преступности - грабежей и убийств, - московское правительство в 1547 году «отставило» корчмы в Новгороде. Вместо них «давали по концам и по улицам старостам на 50 человек 2 бочки пива, да б ведер меду, да вина горького полтора ведра на разруб» {11} , то есть стали распределять спиртное через выборных представителей низовой администрации.
Как внедрялись питейные новшества в других частях Московского царства, мы не знаем, но в итоге государственных усилий появился русский кабак. Многие авторы связывают рождение кабака с учреждением в 1565 году Иваном Грозным (1533- 1584) опричнины и похождениями опричной братии. Однако впервые такое название встречается в документе 1563 года {12} , а к концу века становится традиционным обозначением казенного питейного дома. Не вполне понятно и происхождение самого термина: филологи полагают возможным заимствование и из тюркских языков, и из нижненемецкого диалекта {13} .
Возможно, поначалу открывать кабаки могли и частные лица. Во всяком случае, служивший в России при Иване Грозном немец-авантюрист Генрих Штаден, по его собственному признанию, нажил хорошие деньги, поскольку «шинковал пивом, медом и вином». О том, что кабаки в России «царь иногда отдает на откуп, а иногда жалует на год или на два какому-нибудь князю или дворянину в награду за его заслуги», сообщал побывавший в 1557-1558 годах в Москве агент английской Московской компании Антоний Дженкинсон {14} .
И позднее, в документах XVI-XVII столетий, упоминаются частные питейные заведения, которые, случалось, жаловались царем дворянам вкупе с поместьем или вотчиной. Но со времени Ивана Грозного такое право являлось привилегией и подтверждалось специальной грамотой - вроде той, которую в январе 1573 года получил служилый татарский князь Еникей Тенишевич, пожалованный «за его Еникееву и за сына его, Собак мурзину, к нам службу в Темникове кабаком, что ныне за царем Саинбулатом Бекбулатовичем» {15} . Из текста этого документа следует, что род князя владел кабаком «изстари», пока он каким-то образом не перешел в руки другого служилого хана, ставшего в 1575 году по воле грозного царя марионеточным «великим князем всея Руси».
До середины XVII века знатные особы имели привилегию владеть частными кабаками и охотно ею пользовались - как, например, князь Иван Лобанов-Ростовский, выпрашивавший в 1651 году у царя Алексея Михайловича (1645-1676): «Крестьянишкам моим ездить в город далече. Пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, в моих вотчинках устроить торжишко и кабачишко». Обычно такую милость получали лица из ближайшего окружения царя, но иногда за особые заслуги она давалась в награду.
Так получил кабак знаменитый нижегородец Козьма Минин, ставший при Романовых думным дворянином и хозяином нижегородских вотчин. Владельцем нескольких кабаков был его сподвижник воевода Дмитрий Михайлович Пожарский, включивший их в перечень собственности в своем завещании. «Марчюковские кабаки» он отписал своей жене, а сына Петра благословил вотчинами: «в Суздальском уезде селом с кабаком, и с тамгою, и с перевозом, и с мельницею, что ему дано в вотчину из моево ж поместья, да и моя вотчина, что ис тех же Мытцких деревень взято ему. А что осталось в поместье за вотчиною, и то ему ж… Да ему ж в Нижегородцком уезде у Балахны селцо Кубенцово с кабаком, и с тамгою, и с ухватом да на Балахне варница соленая». Однако князь сознавал греховность питейного богатства и перед смертью распорядился «кабацкими доходы меня не поминать; хотя в то число займовать, а опосле платить не из кабацких же доходов» {16} .
Но разрешения на содержание частных кабаков скоро стали исключением - особым знаком царской милости. Обычной привилегией служилых дворян было право на винокурение. Вот и просили в 1615 году ливенские дети боярские о разрешении им «вино курить и пиво варить безъявочно и безпошлинно» по причине тяжести своей службы: «А мы, холопы твои, люди одинакие, а места наши украинныя и безпрестанна мы бываем на твоих, государевых, службах и воды пьем из разных степных рек, и от разных вод нам, холопем твоим, чинятца скорби и без питья нам, холопем твоим, быть нельзя». Измученным водой ливенцам разрешили гнать вино, чтобы им «от скорбей вконец не погибнуть», но ни в коем разе не на продажу {17} .
В условиях постоянных финансовых затруднений и необходимости содержать значительную армию правительство стремилось сосредоточить в своих руках все важнейшие источники поступления денежных средств. Едва ли не самым важным из них на столетия стала государственная винная монополия. Кабаки превратились в казенные учреждения и обычно содержались выборными от населения кабацкими головами и целовальниками, присягавшими, целуя крест, исправно нести «государеву службу». Таким образом, содержание кабаков стало дополнительной повинностью населения.
Теперь кабаки уже являлись неотъемлемой частью российских посадов. «В каждом большом городе, - писал английский дипломат и разведчик Джильс Флетчер, побывавший в России в 1589 году, - устроен кабак или питейный дом, где продается водка (называемая здесь русским вином), мед, пиво и прочее. С них царь получает оброк, простирающийся на значительную сумму: одни платят 800, другие 900, третьи 1000, а некоторые 2000 или 3000 рублей в год» {18} .
Удивление англичанина по поводу огромных доходов царской казны от питейной продажи вполне понятно. Однако цифры эти - чрезвычайно большие для своего времени и, скорее всего, преувеличенные. Сообщения посла о том, что «бедные работники и мастеровые» пропивали в день по 20-40 рублей, также едва ли соответствовали действительности: на такие деньги в России XVI века можно было приобрести целое село. Однако Флетчер точно подметил быстрое развитие кабацкого дела.
Его не прервали даже разорения и гражданская война. Сохранившийся архив Новгорода показывает, что в самый разгар Смуты в городе функционировали кабаки и винный погреб, исправно снабжавший их питьем. После свержения летом 1610 года царя Василия Шуйского москвичи призвали на трон польского королевича Владислава, чей представитель боярин Иван Салтыков явился в Новгород и привел жителей к присяге «царю Владиславу Жигимонтовичу». Однако уже через полгода Салтыков был объявлен изменником, посажен в тюрьму и казнен; в Новгороде объявились посланцы подмосковного ополчения во главе с чашником Василием Бутурлиным, а воеводой стал князь Иван Никитич Большой Одоевский. Все дворцовые земли, розданные сторонникам королевича Владислава, было указано вернуть в казну. Но скоро к городу подошли шведские войска.
Все эти политические и военные перемены нашли отражение в приходно-расходной документации винного погреба, бесперебойно выдававшего вино по указам любой власти. Сначала его получал и распределял среди новгородских служилых людей боярин Салтыков. Потом его запасы были конфискованы, но «опальное вино» вместе с прочими кабацкими питьями по-прежнему отпускалось дворянам, детям боярским, новокрещеным татарам и монастырским служкам, «которые были против польских людей с воеводою с Леонтьем Андреевичем Вельяминовым под Старою Русою», - кому по кружке, а кому и по ведру. В конце июня - начале июля 1611 года, накануне «новгородского взятия» шведами, вино из государственных запасов выдавалось наиболее интенсивно, в том числе было отпущено 40 ведер для переговоров со шведами: «а вино бы было доброе, чтобы неметцким людем в почесть было».
Однако не помогло и «доброе вино». Переговоры со шведским командующим Яковом Делагарди оказались безуспешными: 16 июля 1611 года Софийская сторона Новгорода была взята штурмом, а через день шведы заняли Торговую сторону. Воевода Василий Бутурлин, разграбив торговые ряды, ушел из города с казаками. Одни представители власти погибли в уличных боях; другие, как боярин князь И. Н. Большой Одоевский, перешли на шведскую службу. Но винный погреб продолжил свою работу, только теперь получателями его продукции стали чины новой шведской администрации: сам Я. Делагарди, М. М. Пальм, Ганс (Анц) Бой, Эверт Горн (Ивер Гор) {19} .
В Смутное время бесперебойная кабацкая торговля подчас приводила к трагическим последствиям. Вологодский архиепископ Сильвестр рассказывал, как небольшой отряд «польских и литовских людей» вместе с украинскими казаками и «русскими ворами» сумел в 1612 году захватить большой город: «На остроге и городовой стене головы и сотников с стрельцами и у снаряду пушкарей и затинщиков не было, а были у ворот на корауле немногие люди - и те не слыхали, как литовские люди в город вошли. А большие ворота были не замкнуты… А все, господа, делалось хмелем, пропили город Вологду воеводы» {20} .
В этих случаях кабаки российских городов принимали пеструю толпу наемников и «воровских казаков». Псковская летописная повесть о Смутном времени рассказывала о действиях таких незваных гостей: «Начаша многую великую казну пропивати и платьем одеватися, понеже бо многое множество имяху злата и сребра и жемчюгу иже грабили и пленили бяху славные грады, Ростов и Кострому, и обители и лавры честные, Пафнутия в Боровске и Колязин, и многие иные, и раки святых разсекаху, и суды и окладу образного, и полону множество, жен и девиц, и отрок. Егда же та вся провороваша и проиграша зернью и пропиша, начата буестию глаголати и грозити гражаном, что мы убо многие грады пленили и разорили, тако же будет от нас граду сему Пскову, понеже убо живот наш весь зде положен в корчме» {21} .
В суматохе измен, появления и гибели самозваных царей и царевичей (только за чудесно спасшегося царевича Дмитрия выдавали себя 15 человек) происходило смещение нравственных ориентиров мирных обывателей. «Сия же вся попусти Господь за беззакония наша, да не надеемся на красоту церковную, ни на обряжение драго святых икон, сами же в блуде и пиянстве пребывающе», - писал келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын. Жития святых и «видения» современников сообщают о нарушениях поста, клятвопреступлениях, осквернении святынь, непочтении к родителям. Представители знати совершали постоянные «перелеты» от одного претендента на трон к другому, а духовные пастыри забыли свой долг: «Кому де мир поучати и наказывати на страх Божий, и те де сами по ночам пьют, и на них де смотря, мир таково же им и обретается».
Один из многих подобных рассказов времени Смуты повествует, как некий грешный поп посетовал Богородице, что она допустила, чтобы некий разбойник-«лях» вынес ее икону из алтаря и на ней «богомерзское проклятое безстудное дело с женою… содея». В ответ «глас бысть от образа: "О презвитере! сей безстудный пес за своя диявольския деяния зле погибнет; тебе же глаголю, яко не толико ми содеа безстудство сей дикий язычник, яко же ты: понеже безстрашием приходиши в церковь мою и без боязни приступивши ко святому жертвеннику в вечеру упиваешися до пияна, а з утра служиши святую литоргию и стоя пред сим моим образом, отрыгаеши оный гнусный пиянственной свой дух, и лице мое сим зело омерзил еси паче сего поганяна: он бо неведением сотвори за сие погибнет; ты же, ведая, согрешаеши"» {22} .
На пике кризиса провинциальные города начали движение за возрождение национальной государственности. Посадские и волостные «миры» создавали выборные органы, которые брали в свои руки сбор государственных доходов, занимались организацией обороны, формировали военные отряды. Содержание ополчения требовало немалых средств. Устанавливая свою власть над городами и уездами, земские лидеры сразу же восстанавливали кабацкую систему. «Откупили есте в полкех у бояр, и воевод, и у столника и воеводы у князя Дмитрея Михайловича Пожарского в Шуе на посаде кабак на нынешней 121 год (7121-й от Сотворения мира. - И. К., Е. Н. ) за триста рублев, и грамота о том в Шуе к воеводе ко князю Ивану Давыдовичю прислана, что велено вам в Шуе на посаде кабак держати, а откупные вам денги платити на три сроки по грамоте… а откупные денги привозили бы есте в Суздаль воеводе ко князю Роману Петровичи) Пожарскому с товарищи на жалованье ратным людем», - гласила одна из грамот кабацким откупщикам в городе Шуе, данная в сентябре 1612 года во время движения ополчения к Москве.
Второе ополчение под руководством Козьмы Минина и князя Дмитрия Михайловича Пожарского сумело освободить Москву от польских войск и организовать выборы нового царя Михаила Федоровича Романова. Страна вновь обрела единство и законную власть. Но при этом не произошло обновления системы управления, общественного строя, культуры. Новая династия сразу же стала восстанавливать прежние государственные институты и среди них - систему сбора косвенного налога через кабацкую торговлю.
«Кабацкое строение»
В 1619 году «кабацкое дело» было подчинено особому приказу - Новой четверти, которая ведала теперь сбором питейных доходов на всей территории страны. В еще не оправившейся от разорений Смуты стране в 1622-1623 годах «с сентября по июль в Новой чети в приходе с московских кабаков и гостиных дворов и из городов» имелось 34 538 рублей {23} . А уже в середине XVII века, по словам подьячего Григория Котошихина, их собиралось «болши ста тысяч рублев». Казна стала крупнейшим производителем и оптовым покупателем вина, а также субсидировала виноподрядчиков. К середине столетия основная часть вина производилась на примерно 200 казенных винокурнях, созданных прямо при кабаках. Прибыль, полученная от торговли вином, становится важнейшей статьей государственных доходов.
Выгодой от поставки водки на казенные кабаки пользовалась не только знать, но и царская фамилия. На пяти дворцовых заводах царя Алексея Михайловича выкуривались десятки тысяч ведер вина в год, и часть из них шла на продажу {24} . Сам «тишайший» государь предпочитал квас или - реже - пиво и пьяниц не любил, грозил им «без всякой пощады быть сослану на Лену»; но кабацкое хозяйство при нем неуклонно развивалось и доход от него увеличился в три раза. Правда, при царе Алексее под Астраханью начались первые в России опыты по разведению своего винограда и изготовлению виноградных вин.
Поначалу кабаки строились только в больших городах - там действовали главный, Красный кабак и несколько заведений меньшего размера. Но как только государство оправилось от потрясений Смуты, кабаки «пошли в народ» - они ставились на людных местах: пристанях, ярмарках, у бань, торговых рядов, таможен. При освоении новых территорий кабаки заводились в основанных городах вместе с московским воеводой, острогом и приказной избой. Заложенный в 1598 году город Верхотурье - «ворота в Сибирь» - уже в 1604 году получил свой кабак, снабжавший спиртным весь сибирский регион. Скоро кабак открылся в «столице» Сибири Тобольске и других сибирских центрах. Точной цифры питейных заведений мы не знаем - она на протяжении столетия менялась, но, по данным Адама Олеария, в середине XVII века в Московском государстве действовало не менее тысячи кабаков.
Питейная документация позволяет нам заглянуть в кабак той эпохи. Часто он представлял собой целый хозяйственный комплекс, объединявший пивоваренное и винокуренное производство и торговлю; в больших городах кабаки и производственные помещения могли находиться даже в разных частях посада. На огороженном кабацком дворе стояли винные и пивные «поварни», где «курилось» вино, варилось пиво и «ставился» мед - в общем помещении или нескольких отдельных.
Здесь готовили солод (пророщенные при особом содержании хлебные зерна) для варки пива и сусло (сладковатый навар на ржаной муке и солоде) - для перегонки вина. В «поварнях» стояли браговаренный, заторный и винные котлы и главные орудия производства - медные кубы и трубы для перегонки, а также «мерные» емкости - ведра и ушаты. Здесь работали опытные мастера (винокуры, «подкурки», браговары, «жеганы») и подсобные рабочие. Винокурни или пивоварни могли содержаться частными лицами, но вся их продукция должна была обязательно поступать в казенные кабаки, где продавалась «в распой» кружками и чарками. Для усиления крепости напиток нагревался и перегонялся дважды, поэтому использовались обозначения: «простое вино» или «полугар» (крепостью 19- 23 градуса) и «двойное вино» (37-45 градусов).
Рядом находились погреба и ледники, где хранились готовые напитки; овины, где сушились зерно, солод, хмель; амбары для хранения инвентаря - «порозжих» и ветхих бочек, «тчанов», бадей, ведер. Тут же могли размещаться другие приписанные к питейному двору заведения: мельницы, бани (общественные - «торговые» или только для персонала кабаков), дома для приезжих голов и целовальников. Иногда неподалеку стояли и таможни, если кабаки и таможенная служба находились в ведении одних лиц. «Поварни» и прочие постройки были огорожены, чтобы посетители не забредали в производственные помещения {25} .
Продажа готовой продукции шла в «питущей» или «питейной» избе, которую специально строили на кабацком дворе или арендовали у кого-либо из горожан, если на посаде требовалось открыть новое заведение. В больших кабаках питейная изба разделялась на «чарочную», где отпускали вино в разлив, и «четвертную», где продавали вино и пиво четвертями и осьмушками ведра.
Изба представляла собой довольно мрачное помещение с лавками и столами, перегороженное «брусом»-стойкой, за которой стоял продавец - «кабацкий целовальник». В его распоряжении находились запасы разных сортов вина и пива и немудреный инвентарь: «Вина в государево мерное заорленое ведро (с клеймом в виде государственного герба, то есть освидетельствованное государственной властью. - И. К., Е. Н. ) - 51 ведро, да два ушата пива - 50 мер, да судов: чарка копеечная винная медная двоерублевые продажи, да деревянная чарка грошевая, да горка алтынная, да ковш двоеалтынный. Да пивных судов три да ковшик копеешной, а другой денежной. Посуды: печатных заорленных две бочки винные дубовые, большие, да полубезмяжная бочка пивная, да четвертная бочка винная, да замок висячий» {26} .
Словарь-разговорник, составленный в 1607 году немецким купцом Тонни Фенне во Пскове, дает возможность даже услышать голоса кабацких завсегдатаев. «То пиво дрожовато, мутно, мне его пить не любе», - заявлял привередливый посетитель. «Волной пир корцма, - отвечали ему гуляки, - хошь пей, хошь не пей» {27} . В кабаке, собственно, и делать было больше нечего: закусывать там не полагалось и никакой еды не продавали - для этого существовали харчевни, которые мог открыть любой желающий; такие «харчевые избы» и «амбары» стояли по соседству с питейными заведениями. Кабацкие целовальники не без выгоды для себя разрешали у дверей кабака торговать «орешникам», «ягодникам», «пирожникам», «блинникам», «питух» приобретал нехитрую закуску, а хозяин взимал с продавцов съестного оброк за право торговли в бойком месте.
Но главной задачей целовальника была бесперебойная продажа вина «в распой». Он отпускал напитки мерным ковшиком и вел учет выручки; он же составлял «напойные памяти» - записи вина, выданного в долг тем клиентам, «кому мочно верить». Попробуем посмотреть за его работой.
Перед нами учетная книга 1714 года Тамбовского кружечного двора и его «филиалов» «у козминских проезжих ворот», «на лесном Танбове», в деревне Пурсаванье и в селе Благовещенском. Каждый месяц кабацкий голова подводил итог: в феврале на кружечном дворе «в кружки и в чарки» было продано 110 ведер «простого вина», а «в ведры и в полуведры и в четверти» - 36 ведер. Каждое поступившее ведро обходилось по себестоимости в 11 алтын (33 копейки), а в разлив продавалось по 25 алтын 2 деньги - итого прибыль составила 83 рубля 60 копеек. Оптовые покупки обходились дешевле - здесь прибыль составила 14 алтын 2 деньги с ведра, то есть 47 рублей 30 копеек, что тоже неплохо. Кроме простого вина продавалось и более дорогое двойное (кабаку оно обходилось по 22 алтына). Его пили меньше - 7 ведер по 1 рублю 18 алтын 2 деньги за ведро, и доход оказался невелик 10 рублей 64 копейки.
Вслед за центральным двором столь же подробно были учтены доходы всех филиалов. Спрос был постоянным, весной и летом объем торговли держался примерно на одном уровне: в марте продажа с кружечного двора составила 175 ведер вина простого и 7 ведер двойного; в апреле - соответственно 165 и 22; в мае 194 и 15; в июне - 155 и 25. Кроме того, в мае в продаже появилось пиво по 4 алтына за ведро. В летнюю страду кабацкие доходы падали - в июле купили только 75 ведер простого вина, в августе - 69. Зато после сбора урожая народ расслаблялся: в октябре посетители забрали 302 ведра вина, в ноябре - 390.
Самым радостным для целовальника стал декабрь с его рождественскими праздниками и гуляньями, во время которых было продано 540 ведер простого вина и 40 ведер двойного на общую сумму в 452 рубля. В итоге за год работы тамбовский кабак получил 1520 рублей чистой прибыли - целое состояние по меркам того времени. Львиную долю этого дохода давало именно «хлебное вино»; продажа меда (101 ведро) и пива (1360 ведер) была несравнима по выгодности и принесла государству всего лишь 9 рублей 5 алтын и 58 рублей 29 алтын {28} .
Конечно, такие поступления могли давать только большие питейные заведения с сетью филиалов. Кабаки, располагавшиеся в XVII столетии в сельской местности обычно только в больших торговых селах, приносили ежегодно прибыль в 20-50 рублей, реже - от 100 до 400 рублей. В крупных городах кабацкие доходы были более внушительными: так, четыре кабака в Нижнем Новгороде в середине столетия давали казне 9 тысяч рублей.
Казенная водка далеко не сразу получила признание, поскольку стоила довольно дорого. Если ведро водки продавалось по цене от 80 копеек до рубля, а в разлив чарками еще дороже, то лошадь в XVII веке стоила от 1 до 3 рублей, корова - 50-70 копеек; при этом все имущество крестьянина или посадского человека могло оцениваться в 5-10 рублей. Продавцы сетовали на отсутствие покупателей. «Питухов мало, потому что кайгородцы в государевых доходех стоят по вся дни на правеже. И по прежней де цене, как наперед сего продавано в ведра - по рублю, в крушки по рублю по 20 алтын, а в чарки по 2 рубли ведро, по той же де цене вина купят мало», - жаловался в Москву кайгородский кабацкий голова Степан Коколев в 1679 году {29} . Где уж тут гулять посадским людям, когда они не могли уплатить государевых податей и подвергались обычному для неисправных налогоплательщиков наказанию - правежу (битью палками по ногам).
Редко бывавший в городе крестьянин не всегда мог себе позволить такое угощение, тем более что землевладельцу пьющий работник был не нужен: обязательство не посещать кабак и не пьянствовать вносилось в порядные грамоты - договоры, регламентировавшие отношения землевладельца и поселившегося у него крестьянина. В грамоте 1636 года властям Павлова-Обнорского монастыря рекомендуется следить, чтобы «крестьяне пиво варили бы во время, когда пашни не пашут, и то понемногу с явкою (с разрешения монастырских властей. - И. К., Е. Н. ), чтобы мужики не гуляли и не пропивались». Такие же порядки были и в городах, где воевода разрешал «лучшим» посадским людям выкурить по 2-3 ведра водки по случаю крестин или свадьбы, а бедноте - сварить пива или хмельного меда, но при этом праздновать не больше трех дней.
В ряде мест крестьяне и горожане даже просили уничтожить у них кабаки, а ожидаемый доход от них взимать в виде прямых податей. Иногда - например, в 1661 году на Двине - правительство по финансовым соображениям соглашалось уничтожить кабаки за соответствующий откуп. В самоуправляемых крестьянских общинах при выборах на ответственные «мирские» должности требовались особые «поручные записи», где кандидаты обязывались «не пить и не бражничать». Известны даже случаи своеобразного бойкота кабаков; так, в 1674 году воронежский кабацкий голова жаловался, что посадские люди в течение нескольких месяцев «к праздникам… пив варить и медов ставить, и браг делать никто не явились же… и с кружечного двора нихто вина не купили».
«Питухов от кабаков не отгонять»
Государственные служащие должны были приложить немало усилий, чтобы приучить сограждан быть исправными кабацкими завсегдатаями - «питухами».
Утвердившееся после Смуты правительство царя Михаила Романова (1613-1645) направило распоряжение местным властям: не забывать «корчмы вынимати у всяких людей и чтоб, опричь государевых кабаков, никто питье на продажу не держал» {30} . Отправлявшемуся к месту службы провинциальному воеводе обязательно предписывали следить, чтобы в его уезде «опричь государевых кабаков, корчемного и неявленого пития и зерни, и блядни, и разбойником и татем приезду и приходу, и иного никоторого воровства ни у кого не было».
В допетровской России использовались два способа организации кабацкого дела. В первом случае один или несколько кабаков сдавались на откуп любому желающему. О предстоящей сдаче кабака оповещали бегавшие по улицам городов «биричи», выполнявшие в Средневековье роль современных средств массовой информации. После объявления предприимчивый и располагавший свободной наличностью человек (или несколько компаньонов) договаривался об уплате государству установленной откупной суммы. Право на откуп закреплялось откупной грамотой с указанием уплаченных им денег и срока, на который кабак передавался в его распоряжение. Надежность откупщика заверяла поручная запись его друзей, обещавших, что новый владелец будет «кабак держати, а не воровата, и на кабаке… никакова воровства не держати, и приезжим никаким людем продажи (в данном случае - ущерба. - И. К., Е. Н. ) и насильства не чинити». После этой процедуры соискатель получал кабацкое хозяйство в свое распоряжение на оговоренный срок (обычно на год), и вопрос о «продажах» и «насильствах» предоставлялся на усмотрение его совести: по Соборному уложению 1649 года «покаместа за ними откупы будут, суда на них и на товарищев их не давати». Более того, воевода должен был предоставлять откупщику приставов для выколачивания денег с задолжавших и не желавших платать клиентов.
Откупщиками становились купцы, зажиточные стрельцы, посадские люди и даже разбогатевшие крепостные крестьяне знатных людей - бояр Салтыковых, Морозовых, князя Д. М. Пожарского, патриарха Филарета. Там, где продажа была выгодна, претенденты на откуп вели за это право активную борьбу, в некоторой степени облегчавшую контроль за слишком ретивыми кабатчиками. Порой только из доносов «конкурирующей фирмы» в Москве могли узнать, что в далеком Иркутске, например, купец Иван Ушаков в 1684 году незаконно поставил несколько новых кабаков и ввел круглосуточную торговлю алкогольной продукцией.
Если же желающих взять кабак на откуп не находилось, то такая работа становилась одной из повинностей местного населения. Тогда в уездный город из Москвы приходило указание: избрать кабацкого голову - «человека добра и прожиточна, который был бы душею прям». Кабацкий голова ведал всей организацией питейного дела в городе и уезде: отвечал за производство вина и его бесперебойный сбыт во всех местных кабаках; должен был преследовать незаконное производство и продажу хмельного - «корчемство». В помощь кабацкому голове избирались один или несколько кабацких целовальников, которые непосредственно продавали вино и пиво в «питейных избах» и вели приходно-расходные книги. Все расходы на заготовку вина (по «истинной цене», то есть себестоимости) и полученные доходы от продажи записывались; эти данные подлежали проверке. Помимо честности для кабацкой торговли требовались и финансовые гарантии, ведь своим «прожитком» неудачливые торговцы возмещали казенный убыток. Поэтому кабацкого голову и целовальников выбирали обычно на год - чтобы, с одной стороны, не допустить злоупотреблений, а с другой - не дать честным людям окончательно разориться.
Вот как проходила процедура такого «выбора», сделанного жителями города Шуи в июле 1670 года: «По указу великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте из Приказу Новые чети за приписью дьяка Ивана Патрекеева и по приказу воеводы Ивана Ивановича Борисова Шуи посаду земской староста Лучка Ондреев да земские целовалники… и все шуяня посадцкие люди выбрали мы в Шую на кружечной двор ко государеву цареву и великого князя Алексея Михаиловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца делу к денежному збору голову шуянина ж посадцкова человека Ивана Гарасимова сына Посникова, да целовалников Бориса Иванова сына Скомелева, Васку Денисова, Якушка Посникова, Ивашка Минеева, Васку Григорьева, Ивашка Мосеева, Митку Григорьева на год сентября с 1-го числа 179 году сентября де по 1 число 180-го году. А они, голова и целовалники, люди добрые душею прямы и животом прижиточны, и в такое великого государя дело их будет, и верит им мочно. В том мы, староста и все посадцкие люди, на нево, голову, и на целовалников сей выбор дали за руками» {31} .
После выборов кабацкий голова и целовальники приносили присягу (крестное целование): «Берут крест, величиною в пядень, держат этот крест перед присягающим, и этот последний крестится и целует крест; затем снимают со стены образ и также дают приложиться к нему». Во время целования произносилась клятва: «Яз [имя] целую сей святый и животворящий крест Господень государю своему царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии на том, что быти нам у его государева и царева и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии дел на Городце, мне [имя] в кабацких головах, а нам [имена] быти с ним в целовальниках» {32} . Кабацкий голова и целовальники обещали «беспрестанно быть у кабацкого сбора», служить с «великим радением», продавать вино «правдою», друзьям и родственникам поблажек в цене не делать, лишних денег не приписывать, не корыствоваться кабацким сбором и не давать «воеводам и приказным людем в почесть и в посул денег ис кабака, вина и меду и от медвяных ставок воску и иного ничего».
Затем они принимали «кабацкое строение» у своих предшественников по описи и оценке избранных для этого дела посадских людей. Хозяйство эксплуатировали на полную мощность, так что преемникам оно порой доставалось не в лучшем виде. «На кружешном дворе изба с комнатою, а покрыта драницами, а все ветхо; да ледник с напогребником и замком личинным, а ледник весь згнил; да житница, что солодяную муку сыплют з замком с личинным, а у погреба решетка деревяная ветха з засовом железным, а погреб покрыт драницами. Да две хоромнишка, оба згнили. Да поварня, что пиво варят; в той поварне котел железной, что пиво варят, ветх и диряв… да русла пивные все згнили, да мерник пивной ветх и дироват, да шайка, да конюшек, да сито, что пиво цедят, ветхо же» - в таком состоянии принимал в сентябре 1654 года кружечный двор в Бежецком Верхе его новый голова Юрий Лодыгин {33} .
За оставшиеся припасы новые хозяева кабака должны были выплатить прежним их стоимость из прибыли за ближайший месяц. Потом надо было ставить или чинить постройки, арендовать амбары, закупать новые аппараты и посуду, сырье (рожь, овес, хмель), дрова, свечи, бумагу и нанимать людей. Местные жители - горожане и крестьяне близлежащих деревень - работали винокурами, сторожами, гвоздарями, извозчиками (развозили вино и пиво, поставляли лед для ледников), пролубщиками (кололи лед на реке). Кабацкий голова платил извозчику за доставку вина с каждой бочки, меда и пива - с каждой бадьи.
После таких расходов выбранным «прямодушным» людям приходилось напрягать все силы, чтобы спаивать соседей более эффективно по сравнению с предшественниками. Ведь они присягали не только беречь «кабацкую казну», но и собирать «напойные» деньги «с великим радением» и непременно «с прибылью против прежних лет»; то есть фактически им «спускалось» плановое задание, которое, как известно, следовало не только выполнять, но и перевыполнять. Кабатчики старались всемерно увеличивать торговлю. В одном северном Двинском уезде в XVII веке уже насчитывалось 20 кабаков, дававших казне около 25 тысяч рублей дохода; в богатой торговой Вологде работали семь кабаков.
Порой содержатели кабаков вступали в жесткую конкуренцию. Тогда, как это случилось в 1671 году, «трудовые коллективы» трех вологодских кабаков били челом на предприимчивого откупщика Михаила Дьяконова, который завел свое заведение по соседству в селе Туронтаеве и продавал вино «для своей корысти поволною малою ценою»; правда, жалобщики должны были признать, что цена вина у ненавистного конкурента определялась меньшими издержками и умением купить дешевые «припасы». Беда была в том, что окрестные потребители «уклонились все на тот туронтаевской кабак» и менее расторопным кабатчикам оставалось только жаловаться, что у них «питейная продажа стала» {34} .
Но все же строить в новом месте постоянный кабак было накладно, поэтому целовальники разворачивали временную продажу - передвижные «гуляй-кабаки». Они открывались при любом стечении народа: на ярмарках, церковных праздниках, торжках - везде, где можно было уловить покупателя. На поморском Севере лихие целовальники на кораблях добирались даже до самых дальних рыболовецких артелей, чтобы максимально увеличить торговый оборот. Такие вояжи могли быть опасными и заставляли тревожиться оставшихся на месте целовальников. Так, белозерский кабацкий голова в 1647 году не имел сведений об отправленном его предшественником «по волостем и по селам и по деревням и по рыбным пристанем», да так и не вернувшемся целовальнике Степане Башаровце, и просил воеводу «обыскати» про его торговлю, чтобы - не дай бог - с него не взыскали «недобор» за пропавшего торговца {35} .
Сохранились жалобы местных крестьян на такие «услуги». «Привозят к нам в Андреевскую волость, - бил челом в 1625 году волостной староста из Сольвычегодского уезда, - с кабака целовальники кабацкие твое государево кабацкое питье, вино чарочное повсягодно по настоящим храмовым праздникам и по господским, и по воскресным дням без твоего государева указу, а продают, государь, в Андреевской волости живучи, вино недели по три, и по четыре, и больше, мало не съезжают во весь год. И от того, государь, кабацкого продажного вина волость пустеет, и многие крестьяне из волости врознь бредут». Церковные власти тоже жаловались - когда целовальники устраивали питейную торговлю в местах сбора богомольцев, от чего происходили «безчинье и смута всякая, и брань, и бои, а иных людей и до смерти побивают». В своих челобитных они просили не допускать торговли вином у монастырей по праздникам - ведь «чудотворное место пустеет» {36} .
Передвижные кабаки «ставились» прямо на крестьянских дворах; если же хозяин возражал, то к нему «приметывались» - например, ложно обвиняли в «безъявочном питье», изготовленном без разрешения властей, или взимали незаконные пошлины с варения крестьянского пива. С крестьян брали «напойные деньги» за вино, которое они выпили, да еще вдвое или втрое больше действительной суммы. При отказе платить требуемую сумму продавец и его товарищи взыскивали ее силой - жалобы пострадавших, подобные приведенной выше, содержат имена забитых на таком «правеже» мужиков. «Благодарное» население слезно просило прекратить навязчивый сервис и даже согласно было платить дополнительные поборы, лишь бы убрать кабак из своей волости. Но, как правило, на такие меры власти шли крайне редко.
В кабацкие книги помесячно записывались «пивные и винные вари», взятые на них запасы, фиксировалась продажа питий. Сначала делались черновые записи - «в кабацкие черные книги», а затем - «в кабацкие белые книги».
Кабацким головам и целовальникам следовало ни под каким видом «питухов от кабаков не отгонять», выдавать вино в долг и даже под заклад вещей и одежды. По принятому в кабацком деле порядку целовальники должны были наливать таким должникам на сумму не более десяти копеек, и то под поручительство, но на деле эти требования не соблюдались. До нас дошли кабацкие росписи долговых «напойных» денег, из которых следует, что сумма таких долгов иногда доходила до половины всей выручки.
Целовальник шел на риск. Неисправный «питух» мог оказаться неплатежеспособным, а то и вообще скрыться, как некий Петрушка из города Тотьмы: «Напил в долг на кабаке у стоек кабацкого питья у кабацкого целовальника Петра Архипова с товарищи в розных месяцех и числех на 6 рублев 24 алтына 4 деньги, а денег он за то питье не платил и с Тотьмы збежал» {37} . Зато с оставшихся кабацкие долги выбивали артели крепких молодцов, вполне официально бравшие на откуп право разбираться с такими должниками. В других случаях с ними обращались как с неисправными налогоплательщиками - «ставили на правеж» на площади перед воеводской избой до полной уплаты долга.
От местных властей требовалось обеспечить максимально благоприятные условия продавцам: их надо было «от обиды и от насильства ото всяких людей оберегать, и суда на них без государева указу давать не велено»; то есть избранный целовальник или откупщик становились неподсудными и неуязвимыми для жалоб. Кроме того, такой посадский отныне являлся правительственным агентом по питейной части: в его обязанности входило взимание денег за «явочное» питье - например за разрешение сварить пива по случаю свадьбы или другого праздника - и выявление «корчемников». Этим они и пользовались.
Подгулявшим «питухам» держатели кабаков приписывали лишнее количество выпитого; у них принимались в «заклад» одежда, украшения и прочие ценные вещи - пока люди не пропивались в прямом смысле донага, снимая с себя оружие, серьги, перстни и даже нательные кресты. Пародия на богослужение второй половины XVII века - «Служба кабаку» - содержит перечень кабацких «даров»: «поп и дьякон - скуфьи и шапки, однорядки и служебники; чернцы - монатьи, рясы, клобуки и свитки и вся вещи келейные, дьячки - книги и переводы и чернилы и всякое платье и бумажники пропивают» {38} . Причем даже жена не могла насильно увести из кабака загулявшего мужа, ведь человек у кабацкой стойки находился при исполнении государственных обязанностей, и никто не смел ему мешать. Если заклады не выкупались, то вся эта «пропойная рухлядь» реализовывалась с аукциона в пользу государства. В одной из челобитных шуйский посадский человек заявлял о том, что его отец «пьет на кабаке безобразно», а кабацкий голова и целовальники «кабацкого питья дают ему много - не по животам и не по промыслу»; сын боялся, что родитель пропьется окончательно и ему придется за него отвечать.
Пользуясь безнаказанностью, откупщики радели о казенных и собственных доходах настолько «бесстрашно», что местным жителям оставалось только жаловаться в Москву на их самоуправство. «Всему городу были от них насильства, продажи и убытки великие. Грабили, государь, и побивали и в напойных деньгах приклеп был великой, хто что напьет и они вдвоя, втроя имывали», - писали в жалобе на произвол местных кабатчиков служилые люди из города Валуйки в 1634 году. «Да поехал яз на подворье мимо кабак; и взяли меня кабацкие целовалники и мучили меня на кабаке. Яросим справил на мне силою четыре рубля с полтиною, а Третьяк Гармонов справил шесть рублев; а питья яз ни на денгу у них не имывал, а питье лили на еня сильно», - бил челом Василий Шошков, которого таким образом «обслужили» в нижегородском кабаке {39} .
В Шуе откупщики-москвичи Михаил Никифоров и Посник Семенов, опытным взглядом определявшие состоятельность посетителей, занимались откровенным грабежом, о чем рассказывают жалобы избитых и обобранных ими зимой 1628 года людей: «Приезжал я в Шую торговать и взошел к ним на кабак испить. И тот Михайло с товарищи учал меня бить и грабить, и убив, покинули замертва. А грабежу, государь, взяли у меня пятьдесят рублев с полтиною денег» {40} . Чем закончилось это дело, нам неизвестно; но и через пятьдесят лет в этом шуйском кабаке творились такие же безобразия. Вероятно, не случайно пошла поговорка: «В Суздале да Муроме Богу помолиться, в Вязниках погулять, а в Шуе напиться». Ибо «упоение» заканчивалось здесь порой трагически - к примеру, в 1680 году, когда «смертным боем» промышлял кабацкий голова Гаврила Карпов вместе с другим представителем закона - местным палачом.
О их похождениях столь же жалобно повествует челобитная жены кузнеца Афанасия Миронова: «Приехал муж мой в Шую ради покупки железа и укладу. И искупя всякою свою поилку муж мой Петр из Шуи поехал июля в 12 день на поков в то ж село Хозниково. А дорога ему получилась ехать через кружешной двор. И тут кружешнова двора голова Таврило Карпов с товарыщи своими мужа моево стал бить и грабить смертным боем и отняли лошедь и з покупкою со всею. А муж мой, покиня лошедь со всею покупкою, с кружешнова двора насилу жив ушел и стал являть многим посадцким людем. И голова Гаврило Карпов выслал с кружешнова двора дву человек целовалника Петра Степанова сына Жотина да палача Федора Матвеева и велел мужа моево Петра поймать. И поймав ево, привели на кружешной двор и велел ево сковать. И сковав, стал ево Гаврило Карпов с товарыщи бить смертным боем. И я, бедная сирота, в близости дворишко мой того кружешнова двора, послышала погубления мужа своего, прибегла на кружешной двор и з деверем Микитою своим. И стала я про мужа своево спрашивать ево Гаврила. И голова Гаврило сказал: муж де твои ушел в железах. И того ж дни и вечера осмотрели шуйские губные целовалники и посадцкие люди, что муж мой на том кружешном дворе очютился мертв лежит, винной в четвертной стойке спрятан» {41} .
Конечно, убийство «питуха» - это уже крайность. Существовали более «гуманные» способы. Как писал в челобитной бывший до того вполне исправным и даже зажиточным мужиком Ивашко Семенов, он имел несчастье, возвращаясь из поездки по торговым делам, зайти в один из четырех вологодских кабаков - «Алтынный кабак». Там гостя употчевали; а «как я, сирота твой, стал хмелен, и оне Иван да Григорей (целовальники - И. К., Е. Н. ) велели мне, сироте твоему, лечи спать к себе за постав. А на мне, сироте твоем, было денег дватцеть восмь рублев с полтиною. И как я, сирота твой, уснул, и оне Иван да Григорей те мои денги с меня, сироты твоего, сняли».
Проснувшись, гуляка не только не нашел спрятанных денег, но и узнал, что должен кабаку 40 алтын (1 рубль 20 копеек) за угощение. Когда Семенов попытался подать челобитную на целовальников-грабителей, те ответили ему встречным иском, в котором 40 алтын превратились уже в 24 рубля. Пока шло разбирательство, кабатчики посадили под арест детей жалобщика, а потом и его самого - кабаки XVII столетия могли быть и чем-то вроде КПЗ для неисправных «питухов». После шестинедельного сидения в «железах» целовальники Иван Окишев и Григорий Чюра предложили Семенову мировую: он отказывается от иска в своих 28 рублях с полтиною, а они «прощают» ему неизвестно откуда взявшиеся «напойные» 24 рубля {42} . Бедный Ивашка опять подал жалобу, но, кажется, уже понимал, что украденных денег ему не вернуть.
Иной кабатчик умел достать своих клиентов и с того света: шуйский откупщик Лука Ляпунов не только обсчитывал «питухов» и приписывал им «напойные деньги», но и внес записи таковых в… свое завещание, должным образом составленное и заверенное; так что бедные посадские не знали, как избавиться от посмертного на них «поклепа» {43} .
При исполнении служебных обязанностей кабацкие головы и откупщики были неподвластны даже самому воеводе, который не смел «унимать» кабацкие злоупотребления под угрозой сокращения питейной прибыли. Порой воевода даже зависел от кабацкого процветания, поскольку в условиях постоянного денежного дефицита московские власти распоряжались выдавать жалованье местным служилым людям из «напойных денег». Получив такой указ: «Пожаловали мы владимирских стрельцов 30 человек денежным и хлебным жалованьем из кабацких доходов», - как это случилось осенью 1631 года, местный градоначальник Петр Загряжский отправился на поклон к откупщику Семену Бодунаеву, ведь взять 60 рублей и 180 четвертей ржи ему больше было негде {44} .
Документы Новой четверти содержат множество подобных распоряжений о выплате кабацких денег на различные государственные нужды. Зато потом тем же воеводам случалось видеть, что стрелецкий гарнизон в дни получения «зарплаты» строем отправлялся в кабак, где на глазах командиров пропивал не только жалованье, но и оружие и прочие воинские «припасы». Когда верхотурский воевода князь Никита Барятинский попросил разрешения навести порядок в местном кабаке, руководители приказа Казанского дворца упрекнули его: вместо того чтобы «искати перед прежним во всем прибыли, а вы и старое хотите растерять» {45} . Об одном из наиболее усердных кабатчиков сообщали в Москву, что он, «радея про государево добро… тех плохих питухов на питье подвеселял и подохочивал, а кои упорны явились, тех, не щадя, и боем неволил».
Стимулом к кабацкой гульбе становились зрелища: при кабаках «работали» скоморохи с медведями, устраивавшие «пляски и всякие бесовские игры». Привлекали «питухов» и азартные игры - «зернь» (кости) и карты, становившиеся в XVII веке все более популярными. Сами кабацкие содержатели или их друзья откупали у властей «зерновой и картовой суд», то есть право на разбор случавшихся при игре конфликтов и долговых расчетов игроков.
Новоназначенному воеводе в сибирском Тобольске рассказывали о прежних порядках: «В прошлых де годех при боярине и воеводе при князе Иване Семеновиче Куракине с товарищами была зернь и карты на откупе на государеве кабаке, и у той де зерни был староста из тех же откупщиков. И тому де старосте велено: которые люди на зерни какого живота проиграют и не хотят платить, запрутся или учнут драться, а которые люди выиграли, а будут на них бить челом, а откупному старосте сказывать не в больших деньгах, и староста, допрашивая про то третьих, тех людей судит и по суду, которые люди виноваты, и на тех людях велит править. А с суда емлет староста себе с истца и с ответчика по 2 деньги с человека». Откупщик же писал долговые обязательства-«кабалы», которые давали на себя проигравшиеся, если не были в состоянии расплатиться наличными.
Случалось, что игроки отправлялись с набором игр по окрестностям вместе с продавцами кабацкой продукции. В 1638 году воевода Тотьмы Тимофей Дубровин доложил, что «на Тотьме, государь, по кабакам и в Тотемском уезде волостные крестьяне зернью играют, а посылает, государь, по волостям с продажным вином с Тотьмы таможенный и кабацкой голова Никита Мясников с товарищами целовальников. И у тех, государь, продажных вин многое дурно чинится, крестьяне пропиваются и зернью играют, и повытья свои пропивают и зернью проигрывают. И от того твоим государевым доходам в сборах чинится мотчанье великое и от зернщиков татьба и многое дурно». В случае очередной уголовщины такие развлечения запрещались, но ненадолго. Через несколько лет новый воевода опять сообщил, как во вверенном ему Тотемском уезде целовальники ездят по волостям, ставят против воли крестьян на их дворах кабаки, «а на кабаках де, государь, приходят зимою и летом всякие воровские незнамые люди, и ярыжки, пропився, валяются и ходят наги, и зернь де, государь, костарня живет и драки беспрестанные… И от того, государь, продажного вина в Тотемском уезде чинятся многие смертные убойства, и татьбы, и зерни, и крестьяне пропиваются и зернью проигрываются» {46} .
В ходе следствия по кабацким «непотребствам» жители Тюмени в 1668 году заявляли: конечно, игру в кабаках можно запретить, что уже бывало; но «как де зерни и карт не будет, и государева де питья никто без того пить не станет». Тогда головы и целовальники станут жаловаться на падение доходов - и, как результат, «после де целовальничья челобитья живет зернь и карты поволно, и в то де время и питья живет больше».
На протяжении года кабацкого голову и целовальников контролировал воевода, который имел право потребовать к себе в канцелярию отчетные документы. Для воеводы целовальники устраивали обеды, приношения, подарки в царские дни. Если отношения не складывались, воевода мог отыграться на недостаточно покладистом голове или откупщике. В 1637 году содержатели кабака в Курске купец Суконной сотни Андрей Матвеев «с товарищи» писали в Москву, что местный воевода Данила Яковлев «тесноту и налогу чинит великую, товарыщев наших, и чюмаков, и роботников сажает в тюрму без вины неведома за што, и питухом на кабак ходить заприщает. Да он жа, государь, воевода в прошлом во 144 году у нас, сирот твоих, в Курску кабаки все запер и приставов детей боярских, и казаков, и стрелцов приставил; и стояли кабаки заперты два месяца, и нам, сиротам твоим, в том учинился недобор великой. А у которых, государь, людей по твоему государеву указу вынимаем корчемное и неявленое питье и кубы винные, и тех, государь, людей приводим к нему, воеводе в съезжую избу. И воивода, государь, тех людей сажает в тюрму, а ис тюрмы выпущает вон». В таких случаях столичные власти обычно стремились урезонить воеводу и требовали не обижать кабацких содержателей, «покаместа они наши кабацкие и таможенные откупные денги заплатят в нашу казну» {47} .
Но и для самых «бесстрашных» кабатчиков наступал срок расплаты. По истечении года голове и целовальникам предстояла сдача «кабацких денег», для чего надо было ехать в столицу, отчитываться перед приказным начальством. Ведь подьячие могли и не поверить, что недобор случился не от «нерадения», и взыскать его с самих выборных. Поэтому в Москве надо было тратиться на подарки чиновникам. «Будучи у сбору на кружечном дворе, воеводам в почесть для царского величества, и для высылки с казною к Москве, и для долговой выборки, и за обеды харчем и деньгами носили не по одно время; а как к Москве приехали, дьяку в почесть для царского величества харчем и деньгами носили не по одно время, да подьячему также носили, да молодым подьячим от письма давали же… из своих прожитков», - описывал свои мытарства кабацкий голова XVII столетия {48} .
При удачной торговле кабацких содержателей ожидала грамота с благодарностью за то, что «учинили прибыль и многое радение, и мы, великий государь, за вашу верную службу и радение жалуем, милостиво похваляем, и во всем бы они надежны на царскую милость, а служба их у государя забвенна не будет». Если выборным удавалось хоть немного «перевыполнить план», то их кормили и поили из дворцовых кладовых; за более существенные успехи им жаловали деньги или иноземные материи. Особо отличившихся ожидал торжественный прием в Кремле у «государева стола» и вручение награды - серебряного позолоченного ковша. Но за такую честь приходилось дорого платить: сверхплановый «прибор» кабацкого дохода приказные чиновники прибавляли к прежнему «окладу» данного кабака, и следующие выборные должны были собрать денег еще больше.
За «простой» в торговле содержатели кабаков вынуждены были расплачиваться. За относительно небольшой недобор «кабацких денег» (до 100 рублей) продавцы отвечали своим имуществом: воеводам предлагалось «доправить вдвое» на них недостающую сумму. Иногда же казна недополучала больше, как это было в Воронеже: недобор случался регулярно и составил в 1647/48 году 324 рубля 26 алтын 4 с половиной деньги, в 1648/49 году - 240 рублей 17 алтын 4 с половиной деньги, в 1649/50 году - 205 рублей 4 алтына 2 с половиной деньги, в 1650/51 году - 367 рублей 31 алтын 1 деньгу, в 1651/52 году - 437 рублей 1 алтын 5 с половиной денег. Отчаявшийся голова С. Трубицын клялся, что вино, оставленное ему предшественниками, не пользуется спросом: «Росходу на кабаке тому вину нет: питухи в чарки не пьют, и в ведра, и в подставы не берут» {49} . Если недобранная сумма превышала 100 рублей, начиналось следствие. Хорошо, если крестьянский или посадский мир, выбравший кабацкого голову и целовальников, принимал взыскание на свой счет; нередко же случалось, что мирской сход отказывался уплатить долг, и тогда упущенные доходы взыскивались с выборных, что приводило к их полному разорению. Тогда кабатчика могли поставить «на правеж» - ежедневно бить палками по ногам на торгу, пока родственники и друзья не вносили «недобранных денег верного бранья» или не покрывали долг средствами, вырученными от продажи имущества. Однако известны случаи, когда денежным штрафам подвергались не только содержатели кабаков, но и местное население - за то, что мало пьет «государевых вин» {50} .
Кабацкие головы и откупщики оправдывали недостаток выручки тем, что заведение поставлено «в негожем месте меж плохих питухов», а самые «лучшие питухи испропились донага в прежние годы». В 1630 году устюжские и нижегородские целовальники докладывали в Москву об угрозе невыполнения плана: «Кабацкому собранию чинитца великий недобор во всех месяцех по июнь месяц против прежнего году для того, что зимою с товаром приезжих людей было мало, а на кабаках питушки не было же: приезжих людей не было, а прежние, государь, питухи розбрелись, а достальные питухи по кабакам валяютца наги и босы, и питье по стойкам застаиваетца». Кабацкий голова из Великих Лук жаловался на убытки, понесенные во время траура по случаю смерти царя Михаила Федоровича: «Велено… кликать в торгу не по один день, чтобы… постилися неделю и скорому никакого не ели, ни мяса, ни рыбы, ни масла, и хмельного питья никакого не пили». В результате этих запретов кабак был заперт целую неделю и продажа вина на руки тоже не производилась, что и вызвало недобор кабацких денег {51} . Чтобы не остаться внакладе, кабатчикам приходилось жаловаться в Москву при малейшей угрозе казенному интересу - даже, например, если начальники местных гарнизонов запрещали пьянство своим служивым.
В особо подозрительных случаях московские власти начинали над кабатчиками следствие, в ходе которого специальная комиссия выясняла: «Не корыствовались ли они государевою казною, не поступились ли с кружечных дворов питья себе безденежно и друзьям своим, на пиво и мед запасы вовремя ли покупали, деньги лишние на прогоны не приписывали ли, в указные ли часы кружечные дворы отпирали и запирали?» - то есть не использовались ли обычные уловки торговцев спиртным в ущерб казне. Указом 1685 года им было предписано производить расходы на починку «кубов» и котлов, строительство и ремонт кабацких зданий только с разрешения приказа Большой казны. За хищения питейных денег кабацким головам и целовальникам назначалась смертная казнь «без всякия пощады». Одновременно приходилось принимать определенные меры в интересах потребителей: от целовальников требовали обслуживать посетителей «полными мерами», а «в вино воды и иного ничего не примешивать», чтобы «питухи» не соблазнялись более качественной «корчемной» продукцией {52} .
Описанная выше технология московского питейного дела существенно отличала российский кабак от западноевропейских заведений: первый действовал как специфическое государственное учреждение, ставившее своей целью максимальное пополнение казны; не случайно во многих городах один и тот же выборный голова собирал и питейную прибыль, и таможенные пошлины. Изначально кабак был ориентирован не на застолье, а на быстрейшее обслуживание непритязательного «питуха», и способствовал тем самым распространению далеко не лучших отечественных питейных традиций.
«Питухи» московские
Несмотря на распространение «кабацкого дела» на российских просторах, в XVII столетии большинство населения страны - крестьяне - по-прежнему отдавало предпочтение «домашним» напиткам - пиву и браге. Кабацкое питье было дороговато, да и находилось далеко от родной деревни, а виноградные вина - и вовсе недоступны для простых людей.
В Архангельске ежегодно закупались сотни бочек лучших западноевропейских сортов - «романеи», «бастра» (бастардо), «алкана» (аликанте), «мушкателя», сека или секта (Seco de Jeres - сухое вино из Испании), «кинареи» (белое вино с Канарских островов), красного церковного (это могли быть и мальвазия, и один из сортов малаги, и кагор), белого и красного французского, «ренсково» (рейнского). Импортные вина ввозились на Русь через Новгород, Псков, Смоленск (из Европы), Астрахань (из Закавказья и Персии) и Путивль (так доставляли из Турции мальвазию). При царе Алексее Михайловиче в московском Китай-городе уже существовали погреба, где продавалось крупными мерами - «галенками» - импортное французское и испанское вино; но покупали его только люди знатные и богатые и жившие в столице иноземцы {53} . «Черные люди» знакомились с иностранными напитками в основном во время народных волнений. Тогда - как, например, в 1605 году, когда перед вступлением в Москву самозванца толпа громила дворы Годуновых и их родственников, - из разбитых бочек черпали вино ведрами, шапками, сапогами. В результате летописец констатировал: «На дворах и погребах вина опилися многие люди и померли».
Главным потребителем импортных вин в XVI-XVII столетиях стал двор. «А исходит того питья на всякой день, кроме того, что носят про царя, и царицу, и царевичей, и царевен, вина простого, и с махом, и двойного, и тройного блиско 100 ведер; пива и меду - по 400 и по 500 ведер; а в которое время меду не доставает, и за мед дается вином, по розчету. А на иной день, когда бывают празники и иные имянинные и родилные дни, исходит вина с 400 и с 500 ведер, пива и меду тысечи по две и по три ведр и болши. Да пива ж подделные, и малиновые, и иные, и меды сыченые, и красные ягодные, и яблочные, и романея, и ренское, и францужское, и иные заморские питья исходят, кому указано, поденно и понеделно. И что про царской росход исходит, и того описати не мочно», - все же попробовал рассказать о хозяйстве царского Сытного дворца середины XVII века эмигрант, бывший подьячий Григорий Котошихин {54} .
«Заморские питья» шли не только на государев стол. Ими потчевали прибывших в Москву иностранных дипломатов. Заключительным этапом благополучно завершившегося посольства был торжественный прием с парадным обедом. Такие пиршества в Кремлевском дворце с горой золотой посуды, сотнями перемен блюд и десятками тостов производили незабываемое впечатление на иностранцев; в них участвовал сам царь, который «жаловал» гостей из своих рук кубками с вином и мясом жареных лебедей.
Кроме того, послам и их свите выдавали на Посольском дворе, как правило, «фряжские вина», но угощали и отечественными медами, пивом, а иногда и «хлебным вином» - но не простым кабацким, а сделанным из виноградных вин путем перегонки-«сиденья», чем занимались специальные дворцовые винокуры. Сытный приказ, который ведал кушаньями и напитками, заказывал водки в Аптекарском приказе: «Велети изсидети в Оптекарском приказе на государев обиход на Сытной дворец из четырех ведер из романеи водка коричная». Таким образом обслуживалась не только знать. В открытой в Москве на Варварке в начале 70-х годов XVII века Новой аптеке свободно продавались «водки, и спирты, и всякие лекарства всяких чинов людем». В ассортименте аптеки были «водки» коричная, гвоздичная, анисовая, померанцевая, цветочная и прочих сортов, изготовленные на казенном сырье; их продажа покрывала все аптечные расходы на приобретение отечественных и импортных лекарств {55} .
Роскошные кремлевские обеды с 50-60 здравицами подряд, богатые приемы в домах русской знати, беспрерывные угощения и праздники - описания всего этого в подробностях можно найти в воспоминаниях и отчетах почти каждого побывавшего в Москве XVI-XVII веков иностранного дипломата, особенно если его миссия была успешной. Пиры и застолья русской знати формировали новые традиции: например, надо было непременно напоить иностранных послов; дабы избежать этой участи, им порой приходилось прибегать к хитрости, притворяясь пьяными. Другие же пытались тягаться с хозяевами, что иногда заканчивалось трагически, как для посла венгерского и чешского короля Сигизмунда Сантая: в 1503 году он не смог исполнить своей миссии, поскольку «тое ночи пьян росшибся, да за немочью с Королевыми речьми не был» {56} .
Однако так же принимали и российских послов за границей. Дипломатическому ведомству России пришлось в 1649 году инструктировать послов в Швецию Бориса Пушкина и Алексея Прончищева: «Приказано накрепко, чтоб они сидели за столом чинно и остерегательно, и не упивались, и слов дурных меж собою не говорили; а середних и мелких людей и упойчивых в палату с собою не имали, для того, чтоб от их пьянства безчинства не было». Такие же наказы давались их коллегам, отправлявшимся в Польшу и другие страны {57} .
«Голь кабацкая» на столичных улицах и пиры в кругу московской знати стали для иностранных дипломатов и купцов поводом для суждений о повседневном пьянстве русских. Однако внимательные иностранцы все же отмечали, что порок этот характерен скорее для «именитых мужей», имевших деньги и время для подобных удовольствий. «А простой народ, слуги и рабы по большей части работают, говоря, что праздничать и воздерживаться от работы - дело господское», - писал цитировавшийся выше Герберштейн. Другой австрийский дипломат Николай Варкоч и живший при московском дворе курляндец Яков Рейтенфельс отмечали воздержанность к вину русских крестьян, которые, «будучи обречены на тяжкую работу и прикреплены к земле, безнаказанно оскверняют праздничные дни, благодаря снисхождению законов, работою на себя, дабы не пропасть, так как в течение всей недели они обязаны в поте лица трудиться на своих господ» {58} .
«Домострой» осуждал «многое пьянство», от которого «дом пуст, имению тщета, и от Бога не помилован будешь, и от людей бесчестен и посмеян, и укорен, и от родителей проклят». Повесть «О хмеле» также отмечает, что от пьянства происходят все жизненные неблагополучия: «Ведай себе, человече, на ком худое платье, то пьяница, или наг ходит, то пьяница ж, кричит кто или вопит, той пьяница, кто убился или сам ноги или руку переломил, или голову сломил, то пьяница; кто в душегубителство сотворит, то пьяница; кто в грязи увалялся или убился до смерти, кто сам зарезался, то пьяница. Негоден Богу и человеком пьяница, только единому дьяволу» {59} . Однако власть систематически приучала подданных всякого звания к кабаку.
«Государево вино» становилось престижной ценностью. В 1600 году правительство Бориса Годунова (1598-1605), желавшее заключить союз с иранским шахом Аббасом I против Турции, отправило в Персию посольство, которое везло не только обычные подарки («медведь-гонец, кобель да сука меделянские»), но и «из Казани двести ведр вина, да с Москвы послано два куба винных с трубами и с покрышки и с таганы». Царский самогонный аппарат стал, кажется, первым известным нам случаем технической помощи восточному соседу. Правда, по оплошности сопровождавших груз персидских дипломатов, суда с подарками потерпели крушение на Волге и посольству пришлось вести долгую переписку с Москвой о присылке новых «кубов». Мы не знаем, насколько успешно развивалось с московской помощью в мусульманской стране винокурение, но в 1616 и 1618 годах царь Михаил Федорович вновь послал к иранскому владыке вместе с высоко ценившимися «рыбьим зубом» (моржовыми клыками), соболями и охотничьими птицами 300 ведер «вина нарядного розных цветов, тройново» (то есть особой крепости), которое было шахом благосклонно принято {60} .
Традиционным стало царское угощение подданных, прежде всего по праздникам. Тогда уездный воевода по спискам выдавал местным служилым людям винные порции. «Сентября в 30 день дано великих государей жалованья погребного питья сыну боярскому Ивану Тотолмину и подьячему, и служилым людем семи человеком на два господские праздника, на Рожество Христово и на светлое Христово Воскресение, и на четыре ангела великих государей, сыну боярскому и подьячему по три чарки, служилым по две чарки человеку на празники и на ангелы великих государей; всего полведра» - так по чину потчевали в 1б94 году подчиненных власти в Тобольске. Сложился особый ритуал питья «на государевы ангелы», то есть на царские именины. После молебна служилые получали свою чарку, которую надлежало «честно» (с громким пожеланием царю здоровья и многолетия) выпить {61} . «Непитие здоровья» в такой ситуации означало как минимум политическую неблагонадежность, а позднее в просвещенном XVIII веке стало считаться самым настоящим преступлением. Но и воеводе не дай бог забыть о празднике или выдать некачественное вино «наполы с водою» - это означало урон чести не только пьющего, но и самого царя, со всеми вытекавшими отсюда весьма неприятными для должностного лица последствиями.
Отдельным подданным или целым группам (например, богатейшим купцам-«гостям» или ямщикам) власти предоставляли привилегию на винокурение, но только для личного потребления и ни в коем случае не для продажи. Один из указов 1681 года уже отмечал как повседневную практику, что вино подносили «приказным людям» - служащим государственных учреждений - «в почесть». Обязательным становилось и угощение мастеровым «за работы».
Водка использовалась как награда за выполнение ответственных поручений. В далекой Сибири дворяне, побывавшие «у калмыцкого бушухтухана в посылке», получили за службу «тринатцать чарок с получаркою». Водкой стимулировали сибирских аборигенов при сборе ясака - натуральной дани мехами. Осенью, к моменту расчета, сибирские воеводы требовали с местных кабаков вина «для иноземных ясачных расходов» и жаловали туземцев даровой чаркой. Обычная практика спаивания «ясачных людей» раскрывается в доносе на воеводу города Мангазеи А. Палицына: «Приедут самоеды с ясаком, воевода и жена его посылают к ним с заповедными товарами, с вином, и они пропиваются донага, пропивают ясак, собак и бобров». Подобные же методы применялись на Русском Севере для «призвания» аборигенов в православие, поэтому отправлявшийся в дальние края воевода просил разрешения захватить с собой ведер 200-300 вина {62} .
У торговцев вошло в обычай «пить литки» - отмечать выпивкой удачную сделку что с немецкой пунктуальностью отметил в своем русско-немецком словаре купец Тонни Фенне в 1607 году. Привычку к хмельному усвоили и духовные пастыри. Перебои в снабжении храмов импортным красным вином заставили церковные власти проявить находчивость: специальный собор в конце XVI века постановил заменить виноградное вино вишневой настойкой {63} . Посол Герберштейн наблюдал в Москве публичные порки загулявших священников. В 1550 году власти назначили особых лиц следить, чтобы священники и монахи не смели «в корчмы входити, ни в пьянство упиватися». На созванном через год церковно-земском Стоглавом соборе пьянство было осуждено как «начало и конец всем злым делам». 52-ю главу соборных постановлений составил «Ответ о пиянственном питии», запрещавший держать в монастырях «вино горячее», но разрешавший братии употреблять квасы и «фряжские вина, где обрящутся, да испивают яко же устав повелевает в славу Божию, а не в пиянство». Следом появилось специальное решение московских церковных и светских властей, запрещавшее священникам и монахам ходить в кабаки, напиваться и сквернословить «на соблазн мирским людям». Виновных, невзирая на сан, надлежало привлекать к ответственности наравне с мирянами. Если же кто-либо подпаивал чернеца, то с него взыскивалась цена выпитого, а сам виновник подвергался заточению в монастырь {64} .
Однако к концу XVI столетия нормы «пития» как белого, так и черного духовенства далеко ушли от традиционного ритуального образца. За трапезой в богатых монастырях неизменно подавались для братии 2-3 меры меда или «пива сыченого» {65} . Помимо обычной пищи монахи вкушали «кормы»: земельный вклад на помин души часто сочетался с условием, чтобы монастырь ежегодно устраивал для братии угощение в память того, по чьей душе делался вклад, а иногда - два «корма»: в день ангела и в день кончины вкладчика. Кроме заупокойных были еще отдельные «кормы молебенные», когда знатные богомольцы приезжали в обитель отслужить молебен за здравие или по обету, данному по какому-либо случаю.
Кажется, увлечение «питьем кабацким» уже не противоречило представлениям о благочестии. В сказании о знаменитом московском юродивом XVI века Василии Блаженном (которого, по преданию, уважал сам Иван Грозный) его герой уже вполне одобрительно относился к пьянице в кабаке, который хоть и трясется с похмелья, но не забывает перекреститься, прежде чем выпить, и тем посрамляет дьявола.
В других частях недавно ставшей единой Руси к московским обычаям еще не вполне привыкли. Житие одного из древнейших новгородских святых, игумена Варлаама Хутынского повествует о том, как скончавшийся в XIII веке настоятель не утерпел и чудесным образом восстал из гроба. Старца возмутило поведение присланного в монастырь после ликвидации новгородской независимости игумена-москвича Сергия: «Нача жити в небрежении: ясти и пити, в келий наедине упиватися; всегда бяше пиян, паче же немилостив до нищих и до странных с пути приходящих». Явившийся на всенощной святой своим жезлом «нача игумена Сергия бити», отчего тот через неделю скончался {66} .
Впрочем, новгородское духовенство вскоре привыкло «пити». Протопоп Знаменского собора в 1591 году официально испросил разрешение держать у себя питье для гостей и бил челом, чтобы пьяных у него «не имали, зане дети его духовные, люди добрые, приходят молиться, и к нему де они приходят за гость, и ему де без того быти нельзя». Надо полагать, резиденция гостеприимного батюшки и его времяпрепровождение с духовными детьми отчасти напоминали порядки в «питейной избе». Но разрешение он получил-таки, «потому что он живет у великого чудотворного места и ему без того быти нельзя» {67} , - только при условии, что протопоп не будет вином торговать, - иначе его и вправду трудно было бы отличить от кабацкого головы.
Фольклорное совмещение кабака и святости порой находило неприглядное, но вполне натуральное отражение в реальной жизни. В 1661 году игумен Устюжского Троицкого монастыря жаловался ростовскому митрополиту Ионе на местных кабацких целовальников. Они - можно думать, из самых лучших побуждений - устроили часовню прямо над кабаком «и поставили в ней нерукотворенный образ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и иные иконы, изнаписав, поставили, и верх, государь, у той часовни учинили бочкою, и на ней шея и маковица и животворящий крест Господень, яко ж и на святых Божиих церквах…. И той, государь, часовне в таком месте и милосердию Божию и иконам быть достоит или нет, потому что собрався всякие люди упиваютца до большого пьянства, и пьяные люди под тою часовнею и под крыльцом спят и блюют и всякое скаредство износят?» {68} .
Набожный Иван Грозный, хотя сам и не придерживался трезвого образа жизни, тем не менее упрекал монахов Саввина-Сторожевского монастыря: «До чего допились - тово и затворити монастыря некому, по трапезе трава растет!» Возможно, государь несколько преувеличивал размеры запустения. Однако в 1647 году вновь назначенный игумен знаменитого Соловецкого монастыря жаловался, что его подчиненные «охочи пьяного пития пить, и они своих мер за столом не пьют и носят по кельям, и напиваются допьяна».
Конечно, известные и богатые обители, как Кирилло-Белозерский, Спасо-Ярославский, Костромской Ипатьев, Симонов, Суздальский Спасо-Евфимьев монастыри, были славны не только кухней и погребом, но и библиотеками, книгописными и иконописными мастерскими. Но наряду с ними существовали десятки небольших и небогатых «пустыней», которые трудно назвать «культурными центрами»: их братия вела хозяйство на скотном дворе и рыбных ловлях, скупала земли, давала мужикам ссуды, торговала на ярмарках и зачастую не сильно отличалась нравственными достоинствами от мирян.
В 1668 году власти небольшого Нилова-Столбенского монастыря оказались неспособными навести порядок в обители, откуда монахи, «похотя пить хмельное питье, выбегают, и платье и правильные книги с собой выносят» и закладывают в близлежащем кабаке. В конце XVII столетия архиепископ холмогорский Афанасий по поводу назначения нового игумена Трифонова-Печенгского монастыря получил характеристики его братии: «Монах Арсений, житель Кольского острога, монашествует лет 5 или 6, житие живет к пьянству желательное и на кабак для напитку бывает нередко и на ту потребу чинит из монастырских избытков похищение. Монах Иаков, заонежанин, корелянин, породою от рождения лет двадцати, грамоте неучен… а пьянства держится с желанием. Монах Калист, в мире был Кольского острога стрелец, леты средовечен, житие живет совершенно пьянственное, мало и с кабака сходит, грамоте неучен и монастырского ничего верить ему невозможно» {69} .
Порядки, укоренившиеся в монастырях, высмеиваются в «Калязинской челобитной» - пародийной повести 1677 года. Братия Калязина монастыря бьет челом тверскому архиепископу Симеону на своего архимандрита Гавриила (оба - реальные лица) за то, что он, забыв страх Божий и монашеские обеты, досаждает монахам: в полночь будит на церковную службу, не бережет монастырскую казну - жжет много ладана и свечей, не пускает монахов за ворота, заставляет бить земные поклоны. Приехав в монастырь, архимандрит «начал монастырский чин разорять, пьяных старых всех разганял, и чють он, архимарит, монастырь не запустошил: некому впредь заводу заводить, чтоб пива наварить и медом насытить, и на достальные деньги вина прикупить и помянуть умерших старых пьяных». И совсем бы монастырь запустел, если бы московские начальники не догадались прислать в него новых бражников, которых сыскали по другим монастырям и кабакам. Монахи пробовали договориться с архимандритом: «Хочешь у нас в Колязине подоле побыть и с нами, крылошаны, в совете пожить и себе большую часть получить, и ты б почаще пива варил да святую братию почаще поил, пореже бы в церковь ходил, а нас бы не томил», - но тот мало с ними пьет да долго бьет. Если же архимандрит не изменит своего поведения, монахи угрожают уйти в иную обитель, «где вино да пиво найдем, тут и жить начнем» {70} .
Церковный собор 1667 года запретил держать корчмы в монастырях. Не раз делались попытки пресечь в обителях производство и употребление крепких спиртных напитков, пока в 1682 году патриарх не запретил винокурение всем церковным властям и учреждениям. Священники и монахи подвергались аресту и штрафу, если появятся на улице в нетрезвом виде «или учнут сквернословити, или матерны лаяти кому». Помогало это, по всей вероятности, мало, поскольку епархиальные архиереи вновь и вновь вынуждены были призывать, «чтоб игумены, черные и белые попы, и дьяконы, и старцы, и черницы на кабак пить не ходили, и в мире до великого пьянства не упивались, и пьяные по улицам не валялись бы».
Но и после того жалобы не прекратились. «Пения было мало, потому что он, Иван, безчисленно пивал, и за ево пьянством церковь Божия опустела, а нам, прихоженам, и людишкам нашим и крестьянишком за мутьянством ево приходить и приезжать к церкви Божией невозможно», - обижались на своего попа жители села Роковичи Воротынского уезда. Суздальцы били челом на вызывающее неблагочиние клира городского собора, где один из батюшек «без престани пьет и бражничает и, напився пьян, идучи с кабаки и ходя по улицам, нас, сирот, и женишек наших, и детишек бранит матерны всякою неподобною бранью, и безчестит всячески, и ворами называет, и на словах всячески поносит». Систематически обращались к своему архиерею и новгородские крестьяне с просьбой отставить духовенство, от чьего нерадения и пьянства «церковь Божия пуста стоит» {71} .
По указу новгородского митрополита в 1695 году духовные лица, замеченные в кабаке, в первый раз платили штраф в 50 копеек, а в следующий - взималось уже по рублю. Если же священник или дьякон попадался трижды, то штраф составлял два рубля; кроме того, нарушителя полагалось «отсылать под начал в монастыри на неделю и болше и велеть сеять муку». Недовольные непотребными пастырями прихожане могли их в то время «отставить», что и сделали в 1680 году с попом Петром из Еглинского погоста Новгородского уезда; вместо него в священники был поставлен крестьянский сын из села Березовский рядок. В менее тяжких случаях духовная особа давала, как дьякон села Боровичи Елисей Ульянов, особую «запись», в которой обязалась не пить вина.
В исповедных вопросах к кающимся грешникам духовного звания постоянно отмечаются такие провинности, как «обедню похмелен служил», «упився, бесчинно валялся», «упився, блевал», а также участие в драках и даже «разбоях» {72} . Буйных пьяниц из духовенства ссылали в монастыри «для исправления и вытрезвления». Помогало это не всегда, и монастырские власти слезно просили избавить их от «распойных» попов и дьяконов.
Духовный вождь русских старообрядцев, страстный обличитель «никонианской» церкви протопоп Аввакум прямо связывал грехопадение прародителей с пьянством. При этом соблазнитель-дьявол напоминал вполне современного автору лихого кабацкого целовальника: неразумная Ева уговорила Адама попробовать винных ягод, «оне упиваются, а дьявол радуется… О, миленькие, одеть стало некому; ввел дьявол в беду, а сам и в сторону. Лукавой хозяин накормил и напоил, да и з двора спехнул. Пьяной валяется, ограблен на улице, а никто не помилует… Проспались, бедные, с похмелья, ано и самим себе сором: борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех, голова кругом идет со здоровных чаш».
Под пером Аввакума ненавистное «никонианство» отождествлялось с вселенским помрачением и представало в виде апокалиптического образа «жены-любодеицы», которая «упоила римское царство, и польское, и многие окрестные веси, да царя с царицей напоила: так он и пьян стал, с тех пор не проспится; беспрестанно пиет кровь свидетелей Исусовых» {73} . Сам вождь раскольников «за великие на царский дом хулы» был сожжен в 1681 году, и ему уже не суждено было узнать, что его младший сын Афанасий стал горьким пьяницей, который «на кабаке жил и бражничал и с Мезени ушел безвестно», а «государево кабацкое дело» набирало обороты.
Привилегированные группы - бояре, дворяне, гости - имели право гнать вино для своих нужд, тогда как прочие подданные должны были довольствоваться казенным питьем в кабаках. Небогатые потребители стремились любыми способами обойти государство-монополиста, и уже в XVI веке появилось такое явление, как «корчемство» - нелегальное производство и продажа вина - сохранившееся в России вплоть до прошлого столетия, несмотря на ожесточенные преследования со стороны властей.
Подданные медленно, но верно привыкали к «зелену вину». «Человече, что на меня зрише? Не выпить ли хотише? Выпей брагу сию и узришь истину», - приглашала надпись на одной из сохранившихся братин. Во всех учебниках по истории раздел о XVII веке сообщает об успехах российского просвещения и «обмирщении культуры». Но эти процессы протекали отнюдь не безболезненно. После Смуты церковные и светские власти осуждали контакты с иностранцами, запрещали книги «немецкой печати»; церковный собор 1620 года даже постановил заново крестить всех принимавших православие иностранцев на русской службе и испытывать в вере побывавших за рубежом московитов. Но в то же время власти вынуждены были брать на службу иноземных офицеров и украинских ученых монахов.
Увеличилось количество грамотных людей (в Москве читать и писать умели 24 процента жителей); появились новые учебные заведения. В 1687 году открылась Славяно-греко-латинская академия, возглавлявшаяся греками братьями Лихудами, - высшая школа, где преподавались риторика, философия, история, грамматика, логика, греческий и латинский языки.
В литературе появились новые жанры и герои. Авторы повестей о Смуте, осмысливая ее причины, впервые увидели в царях живых людей со своим характером, темпераментом, положительными и отрицательными чертами. В церковной и в светской архитектуре утверждается «московское (нарышкинское) барокко» с обилием декоративных элементов - «узорочьем». Произошел поворот от символического, одухотворенного мира древней иконописи к реалистическим изображениям. «Пишут Спасов образ, Еммануила, лице одутловато, уста червонная, власы кудрявые, руки и мышцы толстые, персты надутые, тако же и у ног бедры толстыя, и весь яко немчин брюхат и толст учинен», - сокрушался об искажении прежних образцов протопоп Аввакум. Интерес к человеческой личности нашел воплощение в «парсунах» - изображениях реальных лиц с использованием иконописной манеры, но с индивидуальными портретными чертами.
Кризис средневекового мировоззрения проявился не только в «каменном узорочье» храмов и росте образованности; он имел и оборотную сторону - культурный «надлом», сдвиг в массовом сознании, вызванный колебанием незыблемых прежде основ (исконного уклада жизни, царской власти, церковного благочестия). Оборотной стороной патриархального устройства общества были произвол и крепостничество; осознание ценности человеческой личности сочеталось с ее повседневным унижением; вера в превосходство своего, отеческого и православного сталкивалась с реальным экономическим, военным, культурным превосходством «латын» и «люторов» и первыми попытками реформ, разрушавших прежний быт.
Голод и гражданская война в начале столетия, раскол и преследования за «старую веру» во второй его половине способствовали страшным проявлениям жестокости по отношению к соотечественникам. Разорения Смуты и «похолопление» общества плодили выбитых из привычной жизненной колеи «ярыжек», «казаков», «гулящих людей», для которых кабак становился желанным пристанищем. Новации и вызванные ими конфликты производили определенный «сдвиг в нравственном пространстве» московского человека. Его результатом для одних было принятие начавшихся перемен, для других - уход в оппозицию, в раскол, в бегство, в том числе и в кабак, для третьих - бунт в поисках «вольной воли».
Бюрократизация утверждала «неправый» суд и всевластие чиновника. «Я де и з боярином князем Василием Федоровичем Одоевским управлялся, а с вами де не диво», - куражился над жалобщиками подьячий, а его коллеги за 50-100 рублей обещали «провернуть» любое незаконное решение. Дело дошло до того, что в 1677 году сразу сорока проворовавшимся дьякам было объявлено «страшное» царское наказание - «быть в приказах бескорыстно», то есть взяточники были оставлены на своих постах с указанием жить на одну зарплату.
Домостроевский идеал прикрывал варварские отношения в семье: «Муж ее Евсей… бил ее, сняв рубаху, смертным боем до крови, и по ранам натирал солью». От этого времени до нас дошли первые «женские» оценки своей «второй половины»: «налимий взгляд», «ни ума, ни памяти, свиное узорочье», «ежовая кожа, свиновая рожа». Но тогдашние челобитные и письма упоминают и о «пьяных женках» («а приехала она пьяна», «а лежала за огородами женка пьяна») и «выблядках», которых крестьянки и горожанки могли «приблудить» или, как выражался Аввакум, «привалять» вне законной семьи {74} .
Ученый немец Адам Олеарий часто встречал в Московии упившихся до беспамятства женщин и уже считал это «обыденным». Но и в отечественном рукописном сборнике церковных проповедей «Статир» появляется, кажется, первый в подобного рода сочинениях портрет женщины-пьяницы: «…какова есть мерзостна жена сгоревшим в ней вином дыхающая, возсмердевшими и согнившими мясами рыгающая, истлевшими брашны множеством отягчена, востати не могущая… Вся пренебрегает, ни о чадах плачущих внимает».
В кабаках XVII века процветало не только пьянство, поскольку «в корчемницех пьяницы без блудниц никако же бывают». В Холмогорах рядом с кабаками была уже целая улица публичных домов, хорошо известная иностранцам {75} . «Аще в сонмищи или в шинках с блудницами был и беззаконствовал - таковый 7 лет да не причастится», - пугали исповедные сборники, в то время как на московских улицах гуляк прельщали барышни нетяжелого поведения с опознавательным знаком - бирюзовым колечком во рту. Исповедники выспрашивали у прихожанок, «колико убили в собе детей», и наказывали по шкале: «аще зарод еще» - 5 лет епитимьи, «аще образ есть» - 7 лет, «аще живое» - 15 лет поста и покаяний.
Голландец Николай Витсен, побывавший в Москве в 1665 году, записал в своем дневнике: «Здесь сейчас масленая неделя… В пятницу и субботу мы видели много пьяных мужчин и женщин, попов и монахов разных чинов. Многие лежали в санях, выпадали из них, другие - пели и плясали. Теперь здесь очень опасно; нам сказали, что в течение двух недель у 70 человек перерезали горло».
Изумление европейцев русским пьянством давно стало хрестоматийным. Но и документы XVII века рассказывают о множестве судебных дел о пожарах, побоях, ссорах, кражах на почве пьянства, которое постепенно становилось все более распространенным явлением. Кто просил у власти возместить «бесчестье» (оскорбление) со стороны пьяницы-соседа, иной хотел отправить пьяницу-зятя в монастырь для исправления, а третий требовал возвратить сбежавшую и «загулявшую с пьяницами» жену. Вот типичный - не только для того времени - пример: в октябре 1676 года московский «воротник» (караульщик) Семен Боровков вынужден был жаловаться своему начальству в Пушкарский приказ на сына Максима: «Тот де сын его, приходя домой пьян, его Сеньку бранит и безчестит всегда и мать свою родную бранит же матерны и его Сеньку называет сводником».
Нередко пьяные загулы кончались уголовщиной. Так, крестьянин Терсяцкой слободы Тобольского уезда Семка Исаков убил соседа Ларку Исакова в драке «пьянским делом без умыслу». Другой крестьянин, Семка Гусев, показал: после «помочей» у него дома состоялась пивная пирушка, на которой вместе с хозяином гуляли 13 человек; а наутро во дворе «объявится» труп крестьянина Семенова. Причины и свидетели смерти остались неизвестны; суд освободил Гусева, признав, что данная смерть случилась «ненарочным делом». Такое же решение было вынесено по делу крестьянина Петра Закрятина, обвиняемого в убийстве соседа Осипа Кокорина. Закрятин давал лошадям сено и «пьянским делом пошатнулся» на забор; выпавшее из него бревно зашибло Кокорина, «неведомо для чего» подошедшего к забору с другой стороны. Можно привести множество дел о пьяных драках, в которых кто-то из участников оказывался «зарезан ножем».
Законодательство, в иных случаях весьма строгое, считало пьянство не отягощающим, а, наоборот, смягчающим вину обстоятельством; поэтому убийц из Терсяцкой слободы били кнутом и отдали «на поруки с записью». Даже убийство собственной жены в пьяном виде за пропавшие два аршина сукна или «невежливые слова» не влекло за собой смертной казни, поскольку имелась причина, хотя и «не великая» {76} . За столетие развития «государева кабацкого дела» пьянство проникло в народный быт и начало деформировать массовое сознание, в котором «мертвая чаша», лихой загул, «зелено вино» стали спутниками русского человека и в светлые, и в отчаянные минуты его жизни.
«Царев кабак» в народном восприятии выглядит уже чем-то исконным и отныне прочно входит в фольклор и литературу. Герои-богатыри Киевской Руси (цикл былин складывается как раз в это время) просят теперь у князя Владимира в качестве награды:
Мне не надо городов с пригородками,
Сел твоих с приселками,
Мне дай-ка ты лишь волюшку:
На царевых на кабаках
Давали бы мне вино безденежно:
Где могу пить кружкою, где полкружкою,
Где полуведром, а где целым ведром {77} .
Туда же непременно отправляются и другие герои народных песен - молодец, отбивший у разбойников казну, или любимый народный герой Стенька Разин:
Ходил, гулял Степанушка во царев кабак,
Он думал крепку думушку с голудьбою…
Одна из повестей XVII столетия рассказывает о бражнике, которого апостолы и святые вынуждены были пропустить в рай, поскольку он «и всяким ковшом Господа Бога прославлял, и часто в нощи Богу молился». Интересно, что этот сюжет хорошо известен и в Западной Европе, но во французском и немецком вариантах этот персонаж имеет обычную профессию - он крестьянин или мельник. В русской же повести райского блаженства добивается именно пьяница-бражник. При этом герой, проявив знание Священного Писания, посрамляет апостолов Петра и Павла, царей Давида и Соломона и евангелиста Иоанна, пытавшихся доказать, что ему не место в раю, припомнив каждому его собственные грехи. Иоанну Богослову он указал на противоречия в его Евангелии двух положений: «бражники царства небесного не наследят» и «аще ли друг друга возлюбим, а Бог нас обоих соблюдет». После этого Иоанну приходится признать, вопреки евангельским заповедям: «Ты еси наш человек, бражник»; и герой усаживается в раю «в лутчем месте» {78} .
Кажется, так думали и реальные новгородцы XVII века, повстречавшиеся немцу Олеарию: «Когда я в 1643 году в Новгороде остановился в любекском дворе, недалеко от кабака, я видел, как подобная спившаяся и голая братия выходила из кабака: иные без шапок, иные без сапог и чулок, иные в одних сорочках. Между прочим, вышел из кабака и мужчина, который раньше пропил кафтан и выходил в сорочке; когда ему повстречался приятель, направлявшийся в тот же кабак, он опять вернулся обратно. Через несколько часов он вышел без сорочки, с одной лишь парою подштанников на теле. Я велел ему крикнуть: "Куда же делась его сорочка? Кто его так обобрал?" На это он, с обычным их "…б твою мать", отвечал: "Это сделал кабатчик; ну, а где остались кафтан и сорочка, туда пусть идут и штаны". При этих словах он вернулся в кабак, вышел потом оттуда совершенно голый, взял горсть собачьей ромашки, росшей рядом с кабаком, и, держа ее перед срамными частями, весело и с песнями направился домой» {79} .
В общественном сознании той эпохи кабацкая удаль оборачивалась и своей трагической стороной - безысходностью. Пожалуй, наиболее в этом смысле замечательна «Повесть о Горе-Злочастии», в чем-то сходная с притчей о блудном сыне: «добрый молодец» из купеческой семьи, не послушав родительского совета:
Не ходи, чадо, х костарем и корчемникам,
не знайся, чадо, з головами кабацкими, -
пожелал жить своим умом, но истратил по кабакам нажитый капитал и очнулся раздет и разут:
чиры и чулочки - все поснимано:
рубашка и портки - все слуплено
и вся собина у него ограблена,
а кирпичек положен под буйну его голову
Все попытки изменить жизнь заканчивались для героя разорением и унынием:
Господь Бог на меня разгневался.
И на мою бедность - великия
многая скорби неисцелныя
и печали неутешныя,
скудость, и недостатки, и нищета последняя.
Неодолимое Горе советует ему, как от себя избавиться:
Ты пойди, молодец, на царев кабак,
не жали ты, пропивай свои животы,…
кабаком то горе избудетца,
да то злое Злочастие останетца:
за нагим то горе не погонитца.
В мрачной судьбе героя кабак видится уже почти символом ада, тем более что Горе подбивает героя на преступление - грабеж и убийство - и само признает: «А гнездо мое и вотчина во бражниках» {80} . Единственной возможностью избавиться от привязчивого Злочастия, по мнению автора, был уход в монастырь.
Однако не все современники испытывали к церкви почтение. Тогда же появилась пародия на литургию - «Служба кабаку». Например, молитва «Отче наш» представала там в следующем виде: «Отче наш, иже еси седиш ныне дома, да славитца имя твое нами, да прииде ныне и ты к нам, да будет воля твоя яко на дому, тако и на кабаке, на пече хлеб наш будет. Дай же тебя, Господи, и сего дни, и оставите должники долги наша, яко же и мы оставляем животы свои на кабаке, и не ведите нас на правеж, нечего нам дати, но избавите нас от тюрмы».
Кабак изображен грешным местом, чьим посетителям и «неправым богатством взбогатеша» содержателям «во аде болшое место готовится». Есть там и горькие слова: «Кто ли, пропився донага, не помянет тебя, кабаче, непотребне? Како ли хто не воздохнет: во многие дни собираемо богатство, а во един час все погибе? Каяты много, а воротить нелзе». Правда, автор не стоит за полное воздержание от спиртного: «Создан бо хмель умному на честь, а безумному на погибель» {81} .
Прибывший в Москву ученый хорват Юрий Крижанич был удивлен тем, что «нигде на свету несть тако мерзкого, бридкого и страшного пьянства, яко здесь на Руси». «Государев кабак» представлялся побывавшему в европейских столицах Крижаничу местом «гнусным» во всех отношениях - от обстановки и «посудия» до «бесовских» цен. Но в отличие от прочих иностранцев он видел причины этого явления в «людодерской» политике властей и делал печальный вывод: «Всякое место полно кабаков и монополий, и запретов, и откупщиков, и целовальников, и выемщиков, и таможенников, и тайных доносчиков, так что люди повсюду и везде связаны и ничего не могут сделать по своей воле».
Провал кабацкой реформы
Однако надо признать, что распространение кабаков вызывало беспокойство и у представителей самой власти. Мценский воевода жаловался царю Михаилу Федоровичу на стрельцов: «Вина у себя и суды винны держат и вина сидят беспрестани. И я, холоп твой, по челобитью кабацких откупщиков посылал приставов на винную выемку, и те стрельцы твоего государева указу не слушеют, чинятца силны, вин у себя вымать не дают». Но ведь служилые не просто гнали и потихоньку пили водку. В XVII веке в столицу посыпались жалобы воевод пограничных городов - Брянска, Алексина, Епифани, Великих Лук и других: стрельцы «на кабаках пропились, да они же на карауле на денном и на нощь приходят пияни и унять их им неможно». Приходилось брать от «воинских людей» поручные записи с обязательствами не пропивать и не проигрывать свое оружие и прочее снаряжение.
А вояки-«питухи» уже считали себя вправе взять кабак штурмом, если им отказывали в выпивке; так бравые сибирские казаки во главе с атаманом Романом Шеловым в Великом Устюге «учали саблями сечи и из самопалов стреляти и убили… трех человек до смерти» {82} . Беспокойство местных властей, наряду с пьянством, вызывало распространение азартных игр; выдвигались предложения закрывать питейные заведения во время праздников и в дни выдачи жалования.
Порой к верховной власти взывали весьма влиятельные люди. Прославленный воевода и спаситель отечества, боярин князь Дмитрий Пожарский вместе с двоюродным братом в 1634 году подал царю Михаилу челобитную с жалобой на племянника Федора: «На твоей государевой службе в Можайске заворовался, пьет беспрестанно, ворует, по кабакам ходит, пропился донага и стал без ума, а нас не слушает. И мы, холопи твои, всякими мерами ево унимали: били, на чепь и в железа сажали; поместьице, твое царское жалованье, давно запустошил, пропил все, и ныне в Можайску с кабаков нейдет, спился с ума, а унять не умеем». Отчаявшийся полководец, выигравший не один десяток сражений, в борьбе с кабаком оказался бессилен и просил сдать непутевого родственника в монастырь {83} .
Поэтому, несмотря на то, что вред от кабаков перекрывался в глазах правительства огромными прибылями от питейной продажи, ему приходилось принимать некоторые меры по борьбе с пьянством. Боролись прежде всего с нелегальным изготовлением и продажей спиртных напитков - корчемством.
Соборное уложение 1649 года определило наказание за производство и продажу спиртных напитков в виде штрафа; при повторном преступлении штраф удваивался, к нему прибавлялись наказание батогами, кнутом и тюремное заключение.
«А с пытки будет в винной продаже продавцы повинятся, и тех корчемников после пытки бити кнутом по торгом, да на них же имати заповеди впервые по пяти рублев на человеке.
А буде они в такой питейной продаже объявятся вдругорядь, и их по тому же бити кнутом по торгом, а заповеди имати с них денег по десяти рублев на человеке и давати их на крепкия поруки з записьми в том, чтобы им впредь таким воровством не промышляти. А будет кто в таком воровстве объявится втретьие, и их за ту третьюю вину бити кнутом по торгом и посадите в тюрму на полгода…
А которые люди от такового воровства не уймутся и в таком воровстве объявятся вчетвертые, и им за такое их воровство учинити жестокое наказание, бив кнутом по торгом, ссылати в дальние городы, где государь укажет, а животы их все и дворы и поместья и вотчины имати на государя.
А которые люди у них корчемное питие купят вчетвертые, и тем по тому же чините жестокое наказание, бити кнутом по торгом, и сажати в тюрму на год…
А которые всякие люди корчемников, и кабатчиков, и питухов у голов, и у детей боярских учнут отбивать, и тем отбойщиком, по роспросу и по сыску, чинить наказанье, бить кнутом на козле и по торгом, а иных бить батоги, чтоб на то смотря, иным не повадно было так делать».
Предусмотренные законом наказания за рецидив корчемства показывали, что на практике нарушители государственной монополии никак не желали «униматься». Спрос на корчемное вино заставлял идти на риск, а покупатели готовы были защищать продавцов. Поэтому приходилось наказывать и «питухов»: их не только штрафовали, но и могли подвергнуть пытке, чтобы они назвали корчемников. Строго каралась и перекупка нелегальных спиртных напитков, еще строже - производство их корчемниками на вынос с продажей оптом.
Предусматривалось наказание - штраф в 5 рублей и конфискация - за хранение «неявленого» (изготовленного без надлежащего разрешения и уплаты пошлины) питья. Только дворяне, торговые люди гостиной и суконной сотен (каждодневно) и некоторые из привилегированных категорий служилых людей по прибору (по большим праздникам) имели право на безъявочное производство и, следовательно, хранение спиртных напитков, включая водку. Всем остальным разрешалось производить и держать в своих домах только явочное питье - пиво и мед, но водка должна была покупаться только в кабаках. Количество напитков домашнего производства и число дней, в течение которых приготовленные спиртные напитки должны быть выпиты, строго регламентировались законом и находились в зависимости от обычая, статуса человека, его чина, усмотрения начальства. В непраздничное время населению дозволялось держать «про себя» только «брагу безхмельную и квас житной».
Для надзора за торговлей вином правительство применило проверенный принцип круговой поруки: «А черных сотен и слобод тяглым людем, для корчемные выимки, выбирати по годом меж себя десяцких, и на тех десяцких в Новую четверть приносить выборы за своими руками в том, что тем их выборным десяцким во всех десятках того смотрити и беречи накрепко, чтоб корчемного продажного никакова питья, вина и пива, и меду, и табаку, и неявленого питья и всякого воровства ни у кого не было. А которым людем даны будет на вино, и на пиво, и на мед явки, и те бы люди, сверх явок, лишнего вина не покупали, и пива не варили, и меду не ставили» {84} .
Наблюдение за питейной торговлей должны были осуществлять выборные люди из числа посадских, причем сведения о выборах направлялись в Новую четверть. Каждый десятский стоял во главе десятка выборных, за которым закреплялась определенная часть территории посада, где они обязаны были выявлять продавцов «неявочного» вина. За недонесение об обнаруженных случаях «корчемства» штрафовали: десятского - на 10 рублей, а остальных людей из его десятка - по 5 рублей с человека. Столица делилась на участки во главе с «объезжими головами» из дворян: они со своей командой забирали на улицах пьяных, искали корчемников и доставляли их в Новую четверть, где наказывали виновных.
Правда, закон имел лазейку, которая превращала преступника-«корчемника» в добропорядочного откупщика: такой выявленный, но очевидно состоятельней человек имел право тут же заплатить и зарегистрировать откуп в Новой четверти. Такая уловка освобождала его от ответственности.
Иногда самостоятельность проявляли местные власти, стремившиеся на деле навести порядок в своем уезде. Тобольский воевода князь Юрий Сулешев в 1624 году даже осмелился временно закрыть в городе Таре кабак и добился государевой грамоты об отмене «зернового откупа» и запрете игры в зернь, поскольку «служивые люди держатца зерни и животишка и оружье свое на зерни проигрывают, и от той зерни чинитца татба и воровство великое, и сами себя из самопалов убивают и давятца».
Практиковались и такие меры, как закрытие по указу из Москвы кабаков по всей стране по случаю царской болезни или смерти. В XVII веке в России периодически действовал строгий запрет на продажу и курение табака (даже за его нюханье можно было поплатиться отрезанным носом), преследовались азартные игры - зернь (кости) и карты. В 1649 году воевода в Верхотурье наказывал батогами за «безчинные игрища и забавы»; правда, к запрещенным играм, наряду с картами, относились и… шахматы.
Но все это были полумеры. Кабацкая торговля и, соответственно, пьянство приобрели к середине столетия такие масштабы, что по инициативе только что избранного патриарха Никона (1652-1666) была предпринята первая в нашей истории кампания по борьбе с пьянством.
Родившийся в семье простого крестьянина, Никон уже в 20 лет стал священником; благодаря своим способностям и энергии он сделал стремительную карьеру в монашестве, познакомился с юным царем Алексеем Михайловичем и стал по его рекомендации новгородским митрополитом, а затем и патриархом. Никон показал себя энергичным политиком и «крепким хозяйственником», а его положение «собинного» друга и наставника молодого царя Алексея Михайловича давало ему огромное влияние на государственные дела.
Царь и патриарх мечтали о создании единого православного царства, где царило бы истинное благочестие, но для этого надо было устранить наиболее вопиющие недостатки в жизни подданных и унифицировать церковное «благочиние» - именно в это время решался вопрос о присоединении Украины, шли переговоры о том же с молдавским господарем.
Начать решили с наведения порядка у себя. В феврале 1652 года по городам были разосланы грамоты с указом, чтобы к новому году головам, целовальникам и откупщикам больших запасов питей не запасать, так как с 1 сентября «по государеву указу в городах кабакам не быть, а быть по одному кружечному двору», тем более что во время Великого поста и Пасхальной недели кабаки велено было запечатать и питьем не торговать.
К началу (1 сентября) нового, 1652 года нужно было проработать все подробности реформы. Для этого 11 августа заседал собор с участием государя, патриарха Никона, Освященного собора архиереев и «думных людей». В итоге к воеводам понеслись из Москвы грамоты, сообщавшие, что государь указал: «С Семеня дни 161 году тому верному голове и целовалником вина продавать по нашему указу в ведра и в кружки; а чарками продавать - сделать чарку в три чарки (то есть втрое больше прежней объемом. - И. К., Е. Н. ), и продавать по одной чарке человеку, а болши той указной чарки одному человеку продавать не велел». Ограничивались время работы и контингент покупателей. «В Великой пост, и в Успенской, и в воскресенья во весь год вина не продавати, а в Рожественской и в Петров посты в среду и в пятки вина не продавати ж. А священнического и иноческого чину на кружечные дворы не пускать и пить им не продавать; да и всяким людем в долг, и под заклад, и в кабалы вина с кружечных дворов не продавать. А продавать в летней день после обедни с третьего часа дни, а запирать за час до вечера; а зимою продавать после обедни ж с третьего часа, а запирать в отдачу часов денных», - гласила «Уставная грамота» 16 августа 1652 года о продаже питий на кружечном дворе в Угличе {85} .
Реформа сокращала число кабаков: «…в городех, где были наперед сего кабаки, в болших и в менших, быти по одному кружечному двору» только для торговли на вынос. Указ выступал против кабацкого бесчиния: в новых заведениях «питухом и близко двора сидеть и пить давать не велел, и ярыжным и бражником и зерщиком никому на кружечном дворе быть не велел… А священнического и иноческого чину на кружечные дворы пускать и пить продавать им не велел; да и всяким людем в долг, и под заклад, и в кабалы вина с кружечного двора отнюдь продавать и давать не велел, чтоб впредь питухи в напойных в долговых денгах стоя на правеже и сидя за приставы и в тюрме напрасно не померали, а душевредства б у кабацкого головы с питухами не было».
Рассылавшиеся из Москвы грамоты обязывали местные власти строго следить за соблюдением общественного порядка: «Чтоб у них на кружечном дворе питухи пили тихо и смирно, и драки, и душегубства и иного какого воровства, и татям и разбойникам приходу и приезду не было». Вместе с «воровством» царский указ запрещал картежную и прочие азартные игры и представления скоморохов «с бубнами, и с сурнами, и с медведями, и с малыми собачками».
За нарушение указа сборщикам и откупщикам было назначено строгое наказание - конфискация всего имущества и ссылка в дальние города и в Сибирь. То же наказание было определено и воеводам, если они не будут строго смотреть за сборщиками и откупщиками.
Запрет кружечным дворам работать по праздникам и воскресеньям означал их простой около трети года. Чтобы компенсировать сокращавшийся доход, власти решили повысить цену на вино и сделать ее единой, «указной»: оптом по 1 рублю за ведро, а «в чарки» по полтора рубля на ведро, что означало повышение цен в два и более раз {86} . Если раньше кабацкие головы и целовальники сами курили или заготавливали вино на местах, то теперь было решено сосредоточить все подрядное дело в Москве, в руках крупных специалистов-купцов и получить хорошее вино по дешевой цене. По указу 9 сентября 1652 года было велено уничтожить частные винокурни, кроме «тех поварен, на которых по государеву указу сидят подрядное вино уговорщики к Москве на государев отдаточный двор и в города на государевы кружечные дворы». А заодно решили совсем прекратить торговлю пивом и медом.
Реформа круто ломала уже устоявшиеся кабацкие порядки. Но для Никона она была только первым шагом на пути создания православной монархии. Созванные по его инициативе церковные соборы 1654, 1655 и 1656 годов постановили устранить различия в богослужебных книгах и обрядах между Русской и Константинопольской церквями. Государство решительно поддержало церковь в проведении церковной реформы - исправлении и унификации текстов богослужебных книг и обрядов по греческому образцу тем более что она была вызвана не только «нестроениями» в самой церкви, но и внешнеполитическими планами правительства.
Поспешно проведенная кабацкая реформа оказалась плохо подготовленной. Новая тройная чарка была слишком велика для одноразовой выпивки, а посуды для торговли на вынос взять было негде. Поневоле пришлось восстановить распивочную продажу: в апреле 1653 года очередной указ повелел «во всех городах с кружечных дворов головам и целовальникам продавать вино в копеечные чарки, как в городах продавано было на кабаках наперед сего».
Следом пришлось сбавить цену и устанавливать ее по местным условиям. Во-первых, «мимо кружечных дворов учинились многие корчмы, и продают вино тайно дешевою ценою», несмотря на грозные указы за первую же «корчму» бить кнутом, отнимать в казну поместья, вотчины, дворы, лавки и прочую недвижимость, «резать уши и ссылать в дальние Сибирские городы». Во-вторых, перестройка и централизация дела заготовок вина для кружечных дворов провалились. В столице точно не знали, сколько нужно поставить вина на каждый кружечный двор государства; не оказалось и достаточного количества состоятельных и надежных подрядчиков; в результате платить казне пришлось дорого, качество продукта было «непомерно худо, и пить де его не мочно», да и того порой не хватало. Приказы стали рассылать по уездам указания, чтобы кабацкие головы не надеялись на подрядное вино, а курили его сами или подряжали производителей на местах.
Резкое сокращение кабацкой торговли вызывало протесты. Доходило до того, что толпа штурмом брала «кружечные дворы», как это произошло в Коломне, где солдаты «человек с двести и болши и учали де в избах ломать подставы и питье кабацкое лить и целовальников волоча из изб бить кольем и дубинами до смерти». Головы и целовальники докладывали, что многие люди не пьют вина, а привыкли к пиву и меду. Пришлось в 1653 году «для больных и маломочных людей, которые вина не пьют, пиво и мед на продажу держать по-прежнему». Интересно, как целовальник определял, кто действительно болен или «маломочен», а кто просто желал побаловаться пивком?
Наконец, жизненно заинтересованные в «напойных деньгах» продавцы стали возражать против ограничений на продажу: «лучшая питушка» бывает по вечерам и по праздникам, а «в будние дни, государь, на кружечном дворе и человека не увидишь, днюют и ночуют на поле у работы». Эти ограничения все же продержались несколько лет, но в марте 1659 года вышел указ «с кружечных дворов в посты вино, и пиво, и мед продавать по вся дни». Осталось только запрещение торговать в воскресные дни, но и его перестали соблюдать в условиях острого финансового кризиса.
Крах кабацкой реформы был ускорен невиданной прежде инфляцией от столь же плохо продуманной денежной реформы. В России XVII века реальной денежной единицей была серебряная копейка величиной с ноготь. Но стоила копейка дорого: на нее можно было купить несколько пудов свежих огурцов; для крупных же сделок - особенно для оптовой торговли на ярмарках - она была слишком мелкой. В 1654 году появились серебряные рубли и полтинники, а вслед за ними - медные копейки. Поначалу старые и новые деньги ходили наравне. Но война с Польшей за Украину заставила выпускать все больше медных денег - за несколько лет их начеканили на 15-20 миллионов рублей. Правительственные «экономисты» XVII века выдавали жалованье медью, но при этом налоги, пошлины и штрафы требовали платить серебром - и в 1662 году разразилась финансовая катастрофа: за рубль серебром давали 10 и больше рублей медью; крестьяне прекратили подвоз продуктов, и цены на хлеб на городских рынках взлетели в 10, а местами и в 40 раз.
25 июля 1662 года в Москве появились «письма»-воззвания, обвинявшие царского тестя боярина Илью Милославского в «измене» - подделке денег. Несколько тысяч москвичей двинулись в Коломенское. Застигнутый врасплох Алексей Михайлович лично объяснялся и даже «бил по рукам» с подданными, своим царским словом обещая расследовать все обвинения. Но согласие длилось недолго: подоспели стрелецкие полки, и у стен дворца началась бойня - погибли и утонули в Москве-реке около 900 человек. Еще 18 человек были казнены после следствия, 400 «бунтовщиков» с семьями отправились в Сибирь.
В июне 1663 года царь велел уничтожить медные деньги и восстановить старые с
Была ли пьяной Русь?
Миф о якобы «традиционном русском пьянстве», испокон веков процветавшем на Руси, существовал с давних пор. Периодической западной печати, особенно любящей муссировать его, пришли на подмогу русофобы с учёными степенями, доказывавшие якобы национальную склонность русских людей к спиртным напиткам. Попробуем разобраться в том, много, мало и испокон ли веков пили на Руси и как обстояло дело у других народов.
С тех пор как род человеческий обрёл письменность, на камнях, на дощечках, на бычьей коже он стал живописать и о своём интересе к хмельным напиткам. Седая древность оставила нам немало таких свидетельств. За три, четыре тысячи лет до новой эры в Древнем Египте знали вкус виноградного вина и пива. В Греции культ вина проповедовался настолько широко, что на празднествах рядом со статуей Диониса (бог виноделия), должно быть, какой-то остряк стал ставить и Афину (богиня мудрости), убеждая греков, что от вина ум человека становится острее и гибче. Иногда, правда, между статуями этих божеств помещали нимф (богини водных источников) как символ умеренности, призывая разбавлять тягучие алкогольные напитки.

Литературные памятники донесли до нас невоздержанность в употреблении вина в Древнем Риме. Подробно и живо описаны «лукулловы пиры», на которых в винном угаре тонули и общественная мораль, и общепринятые нормы поведения. «У самых цивилизованных и просвещённых народов очень принято было пить», - вывел в своём трактате о пьянстве Монтень. Нет, не было народа и государства как на западе, так и на востоке, которые не испытывали бы тягу к вину.
Сортов вина было великое множество. Дешёвое и невкусное делали вино древние египтяне. А какое прекрасное вино источала солнечная Палестина, восхищается американский историк X. Ж. Магуалиас. Ну, как не пить его ещё и ещё. И ветхозаветный пророк Исайя сообщал о древних евреях, что они рано встают, чтобы гнаться за опьяняющими напитками, и засиживаются ночью, чтобы сжигать себя вином. Жалобами на слишком пагубную страсть в еврейском народе проникнуты многие другие библейские свидетельства. И даже христианская Византия, возвестившая миру аскетизм и сдержанность через новую религию, не справилась с устоявшимся пороком.
Правда, уже тогда понимали, что пьянство является общественным недугом и подлежит врачеванию в рамках государства. Пьяниц древние египтяне подвергали наказаниям и осмеянию. Более чем за тысячу лет до новой эры в Китае был принят императорский указ о пьянстве, в котором с тревогой отмечалось, что оно может стать причиной разрушения государства. Китайский император By Венг даже издал указ, согласно которому все лица, захваченные во время попойки, приговаривались к смертной казни. Уличённых в пьянстве в Индии поили… расплавленным серебром, свинцом, медью. В древней Спарте намеренно спаивали пленных рабов, чтобы юноши видели их скотское состояние и воспитывали в себе отвращение к вину.
Такие примеры можно было бы приводить до бесконечности. Суть их в том, что пьянство с древнейших времён не являлось прерогативой какой-либо страны, национальности. Сметая на своём пути этнические и государственные границы, оно не обошло ни одну страну, ни один народ.
Но повесили ярлык исторически спивающегося на русский народ. И мы как-то легко поверили в это, смирились, не усомнились, что достославные предки наши не только сами в пьяницах значатся, но и нам то завещали. А была ли в действительности древняя Русь пьяной?
Подобные утверждения начисто лишены исторической подоплёки, - отвечает историк Буганов. - Ни в одном древнерусском письменном памятнике до татаро-монгольского нашествия, т. е. до конца первой трети XIII века, нет ни жалоб на чрезмерное употребление алкоголя, ни упоминания о пьянстве вообще среди нашего народа. Объясняется это довольно просто. До X века русичи не знали пьянящего виноградного вина, варили пиво, изготовляли брагу и квас, медовуху. Эти лёгкие напитки сопровождали застолья и братчины, приносились в качестве угощений на пирах, вызывая у пьющих весёлость, не переходившую в тяжёлое опьянение.
Но на чём же основываются те, кто обвиняет русский народ в «традиционном пьянстве»?
Вот один из «исторических» аргументов. Политическая обстановка тех лет складывалась таким образом, что Владимиру нужно было принять религию по византийскому образцу, ведь Византия входила в очередной зенит своего могущества, являясь государством, где монотеическая религия закрепляла и дополняла власть императора. Посольства же, посланные Владимиром на Восток, чтобы выяснить положение в ведущих мусульманских государствах, докладывали, что Багдадский халифат, крупнейшее в то время государство ислама, утратил своё могущество, а его владыки не пользовались никакой реальной властью. Шло к упадку и сильнейшее мусульманское государство Средней Азии – держава Саманидов. Русский князь учитывал всё это, но, не желая ссориться с представителями ислама, которые убеждали его сделать на Руси государственной свою религию, объяснил свой отказ тем, что на Руси не могут без вина, которое, как известно, ислам запрещает.

Руси есть веселие пити, не можем без того быти, - ухмыльнувшись в бороду, заявил князь Владимир.
Много позже слова Владимира Святославовича недруги стали истолковывать задним числом в другом смысле. Якобы русский народ не может существовать без алкоголя. Отсюда берёт начало этот миф о русском пьянстве. На самом деле Россия вступила в средневековье трезвой. И это утверждение попытаюсь обосновать.
С 1951 года на территории Новгорода начал проводить археологические раскопки академик А. В. Арциховский. Интереснейшим научным открытием стали берестяные грамоты, которые свидетельствовали, что Русь широко писала и читала. Как раз государственная организация Новгорода вызывала к жизни необходимость распространения грамотности, как среди хозяев, так и среди крестьян. Ведь последние не только читали, но и ответ в письме держали.
Потом эти раскопки продолжил член-корреспондент АН СССР В. Л. Янин. В берестяных грамотах этих достаточно много места отводилось и мельчайшим бытовым вопросам. Но ни в одном из берестяных свидетельств нет упоминания о вине и пьянстве. Широкое распространение грамотности не зафиксировало этих явлений.
Только к XV веку на территории русского государства оформилась в качестве общественного питейного заведения корчма, владельцы которой платили пошлины с напитков князю. В ней наряду с вином пользовались ночлегом, заказывали еду, пели и слушали музыку. Однако корчмы были только в крупных центрах: в Киеве, Новгороде, Пскове и Смоленске.
Напротив, в Западной Европе средневековье отмечено повсеместным ростом употребления не только вина и пива, но и крепких спиртных напитков. Уже в XIII веке западный европеец, в отличие от наших предков, не только знал, что такое водка, джин и другое, но и старательно их употреблял. Разнообразные и дешёвые крепкие напитки триумфально шествовали из дворцов в простой народ через кабаки и торговые лавки.

«Германия зачумлена пьянством», - восклицал реформатор церкви Мартин Лютер. «Мои прихожане, - жаловался одновременно с ним английский пастор Уильям Кет, - каждое воскресенье смертельно все пьяны». И это в старом и чопорном Лондоне, откуда раздаются упрёки России в традиционном пьянстве. Современники сообщали, что в Лондоне «в каждом доме, в каждой улице кабак имеется». В них женщины пили наравне с мужчинами, цены в прейскуранте подкупали своей дешевизной. Простое опьянение - пенс, мертвецкое - два пенса и солома даром.
Глядя на всенародную страсть к пьянству, поразившему все сословия, папский посол Антоний Компаниус горько воскликнул: «Здесь бытие - лишь питие». Дипломат не был далёк от истины. Общественное сознание тех лет в Англии не осуждало пьянства. Более того, непьющий не считался джентльменом.
В России производство крепких напитков приходится лишь на рубеж XV-XVI веков. Появление водки зафиксировано примерно этим временем. Спирт - это изобретение древнеегипетских мудрецов-врачевателей, которые за большие деньги продавали его во многие страны. В Европе спирт разбавили и одарили им Русь. Поначалу водку употребляли исключительно как лекарственное средство. Aqua vita, живая вода, - в русской окающей транскрипции - оковита. Под таким названием застал кое-где водку даже XIX век. В южных губерниях её стали называть горилкой, а в Великороссии привилось название, дошедшее до сегодняшнего дня.

В середине XVI века в России появляется кабак - место казённой или откупной продажи спиртных напитков. Иван Грозный распорядился построить первый кабак в Замоскворечье, вернувшись из казанского похода. Как гласит «Русский архив» (1886), он запретил жителям Москвы пить водку, позволив, однако, для опричников построить особый дом под названием кабак. Капли золотого дождя упали в царскую казну и забарабанили всё чаще и чаще стараниями проворных слуг, смекнувших, что дело это - зело доходно. Уже к первой половине XVII века «царёвы кабаки» как грибы после дождя выросли не только в городах, но и в небольших деревнях. Приходившие туда быстро хмелели. Пожалуй, с этих лет начал формироваться миф о повсеместном пьянстве на Руси, в основе которого лежат свидетельства заезжих иностранцев.
Итак, со времён Ивана Грозного стали собираться кабацкие доходы, или «напойные деньги». Осуществляли это присяжные головы и целовальники, то есть выборные чиновники.
Наряду с казёнными - царскими кабаками - на Руси возникла и другая форма - пожалованные кабаки боярам, помещикам и монастырям. Одновременно московское правительство жёстко преследовало кормчество, ревностно ограждая свою монополию на производство и продажу алкогольных напитков. И всё же в Московии нашлись люди, усмотревшие в действовавшей системе спаивания, хотя и очень доходной, одну из главных причин «душевредства». Так именовал пьянство патриарх Никон, под влиянием которого царь Алексей Михайлович задумал широкую реформу кабацкого дела. С этого времени берут начало попытки государственной регламентации производства алкоголя.
В феврале 1652 года были посланы грамоты по городам, которыми объявлялось, что с нового года «в городах кабакам не быть, а быть по одному кружечному двору». Запрещалась торговля вином во время Великого поста и на Святой неделе. Воеводам предписывалось закрывать на это время кабаки. В августе 1652 года был созван «собор о кабаках», на котором предстояло выяснить детали реформы, уже в принципе принятой и осуществлённой в своих основных чертах. Состав участников собора, как видно из грамоты, посланной в Углич 16 августа 1652 года с изложением постановлений собора, был обычным для XVII века.

Из постановлений собора особенно важным является ограничение времени торговли вином. Запрещалась его продажа во время постов, по воскресеньям, средам и пятницам. А разрешалась в понедельник, вторник, четверг и субботу только после обедни, то есть после 14 часов, и прекращалась летом - за час «до вечера» (около 17 часов 30 минут), а зимой - «в отдачу часов денных» (около 17 часов). Категорически было запрещено торговать вином ночью. Количество вина, продаваемого одному лицу, было ограничено одной чаркой, в долг и под заклад давать было не велено.
В заключение грамоты о кабацкой реформе, посланной в Углич, была добавлена любопытная оговорка относительно «напойных денег» - «собрать перед прежним с прибылью»! Достигнуть этой цели московское правительство надеялось путём уничтожения частных кабаков и повышения цены на вино. Именно эта лицемерная по своей сути политика красной нитью проходит через историю кабацкого вопроса в России. С одной стороны, монарх бичует пьянство, с другой - велит с прибылью собрать «напойные».
Заезжие иностранцы живописно свидетельствуют об этом, хотя большая часть их выводов основывается лишь на впечатлениях, чаще всего зрительных, без сравнительного анализа с европейскими государствами. В 1639 году Адам Олеарий, представлявший в Москве голштинского князя Фридриха III и подолгу службы частенько разъезжавший по нашей земле, заключил в самой известной книге о России в XVII веке «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно», что русские «более привержены к пьянству, чем любой другой народ мира».
Свидетельства эти следовало бы не только проверить, но и сравнить с тем, что происходило в то время в Западной Европе. Например, водка в России стоила дорого, дороже, чем в Европе. И это сдерживало её массовое употребление.
Б. Мэй, английский историк, в объёмистой книге, вышедшей в Лондоне в 1984 году, сославшись на А. Олеария, писал: «На протяжении столетий иностранцев постоянно потрясало потребление алкоголя русскими, принадлежащими ко всем классам общества...» Б. Мэю вторит американский историк Дж. Веллингтон, кстати, консультировавший президента Рейгана по вопросам отношений с Советским Союзом. В книге с претенциозным названием «Икона и топор», выдержавшей два издания, он бездоказательно утверждает, что в Московии наиболее распространённым пороком было пьянство.
Насколько же объективны наблюдения А. Олеария и выводы учёных?
Как известно, степные кочевники оттеснили наших пращуров из чернозёмной полосы на север. Но и там народ наш продолжал заниматься привычным для него земледелием. И хотя климат здесь был отнюдь не благоприятным, а почвы - просто бедными, наш пахарь продолжал поднимать землю, растить хлеб насущный. В мире лишь две северные страны создали у себя крупное земледелие. Это Россия и Канада. Но в Канаде значительная часть крестьян живёт примерно на широте нашего Крыма. Как в Западной Европе. В России же тех лет земледелие развивалось в тяжелейших климатических условиях. Сравните. Зимы холодные и долгие, в то время как в Европе солнце и тепло отнюдь не редкие гости.

Почвы в нечернозёмной полосе обезображены болотами, и сезон полевых работ почти вдвое короче, чем в Европе. Время выпаса скота укорачивалось из-за климатических условий на два месяца. Очевидно, что для получения минимума продукции наш пращур вкладывал физических и духовных сил и времени несравненно больше, чем его западноевропейский коллега. Когда уж тут пить? Ей-богу, вымерли бы русичи, не вынесли бы жесточайшей борьбы с кочевниками, если бы вливали в себя алкогольной продукции даже равное с европейцами количество. Сколько мужества, сколько терпения, воли и выносливости нужно было народу нашему, чтобы выжить, чтобы накопить материальные ресурсы, подорванные татаро-монгольским нашествием, чтобы, оперевшись на них, построить огромную империю.
Почти на сто лет раньше А. Олеария по владениям великого князя Василия Ивановича разъезжал посол в Московию императора Максимилиана (из Габсбургов) Сигизмунд Герберштейн, написавший «Записки о московитских делах». В ней нет упоминания о пьянстве среди русских. Разве что встречается сообщение, что… «немного лет тому назад государь Василий выстроил своим телохранителям новый город Нади». Что это за город, историкам хорошо известно. Но поведаем о нём из книги уже не раз упоминавшегося А. Олеария.
Он писал: «Четвёртая часть города (речь идёт о Москве. -А. С. - Стрелецкая слобода - лежит к югу от реки Москвы в сторону татар и окружена оградою из брёвен и деревянными укреплениями. Говорят, что эта часть выстроена Василием, отцом тирана, для иноземных солдат: поляков, литовцев и немцев и названа по попойкам «Налейками» от слова «налей». Это название появилось потому, что иноземцы более московитов занимались выпивками, и так как нельзя было надеяться, чтобы этот привычный порок можно искоренить, то им дали полную свободу пить. Чтобы они, однако, дурным примером не заразили русских, то пьяной братии пришлось жить в одиночестве за рекой».
Ни у болгар, ни у русских, - считает Христа Орловский, председатель национального комитета трезвости Народной Республики Болгарии, - так называемых пьяных традиций никогда не существовало. На Руси ещё в конце XVII века был учреждён специальный «орден за пьянство» - тяжёлая чугунная плита с железным ошейником. Не менее круто обходились с выпивохами и у нас.
Создатель первой болгарской азбуки философ Константин-Кирилл написал притчу против пьянства, закончив её такими словами: «Пьяницы не походят ни на людей, ни на скотов - только на дьяволов. От них отворачиваются ангелы, их обегают люди».

В книге известного бытописателя прошлого века Ивана Прыжова «История кабаков в России в связи с историей русского народа» (1886) отмечается, что «миллионы людей… видели в пьянстве божье наказание и в то же время, испивая смертную чашу, протестовали, пили с горя». Прочитав книгу Прыжова, укрепляешься в убеждении, что пьянство пришло на русскую землю извне.
Механизм алкогольной эксплуатации народа в XVII и XVIII веках, всё больше и больше оттачиваясь, увеличивал потребление крепких напитков в стране. XIX столетие принесло России фабричное производство чистого спирта. Один из крупнейших психиатров дореволюционной России И. А. Сикорский писал: «Раньше было пьянство, а с XIX века начался алкоголизм...» По всей стране открывались корчмы и кабаки, торгуя и денно, и нощно.
Итак, с каждым годом Россия всё больше и больше хмелела. Но водка распространялась вширь, а не вглубь. И если общее количество её за счёт продажи в Отдельных губерниях возрастало, то на душу населения по сравнению с другими государствами Европы Россия занимала скромное, среди последних, место. В конце XIX века наша страна по потреблению спирта была на девятом месте, пропустив далеко вперёд Францию, Швецию, Данию, Голландию, Германию и других.
Один из виднейших специалистов в этой области тех времён Н. О. Осипов писал, что «Россию по количеству алкоголя можно было бы причислить к самым трезвым странам Европы». Русский крестьянин имел возможность пить лишь несколько десятков дней в году - по престольным праздникам, на пасху, масленицу, на свадьбах и базарах. Всё остальное время он тяжело работал, отвоёвывая у земли в суровых условиях нашего климата хлеб свой насущный. Крестьянский труд не терпел ни двух, ни трёх каждодневных рюмок.
Когда на Западе сегодня говорят об «исконном русском пьянстве», то не учитывают социальных корней этого явления в дореволюционной России. Убедительность же аргументов чаще всего не выходит за рамки пропаганды.
В середине XIX века в России оформляется сильное трезвенническое движение, которое наряду с виднейшими общественными деятелями поддерживала и церковь.

Но ростки эти были втоптаны в грязь правительством, распорядившимся уничтожить общественные антиалкогольные институты, несмотря даже на конфликт с церковью. С одной стороны, практиковалось моральное осуждение, вводились ограничения, но потом их отменяли, и производство водки возрастало. В XVI веке Иван III закрыл корчмы, его сын Василий III разрешил пить только своим слугам да иностранцам, которым построил для этого слободу в Замоскворечье. При царе Алексее Михайловиче в ХVI веке продажу водки в кабаках ограничили, но упавшие доходы заставили всё вернуть на круги своя. В первой четверти ХVII века казна получила с водки более 1 миллиона рублей, в 1800 году уже 13,6 миллиона, а в конце XIX века - 300.